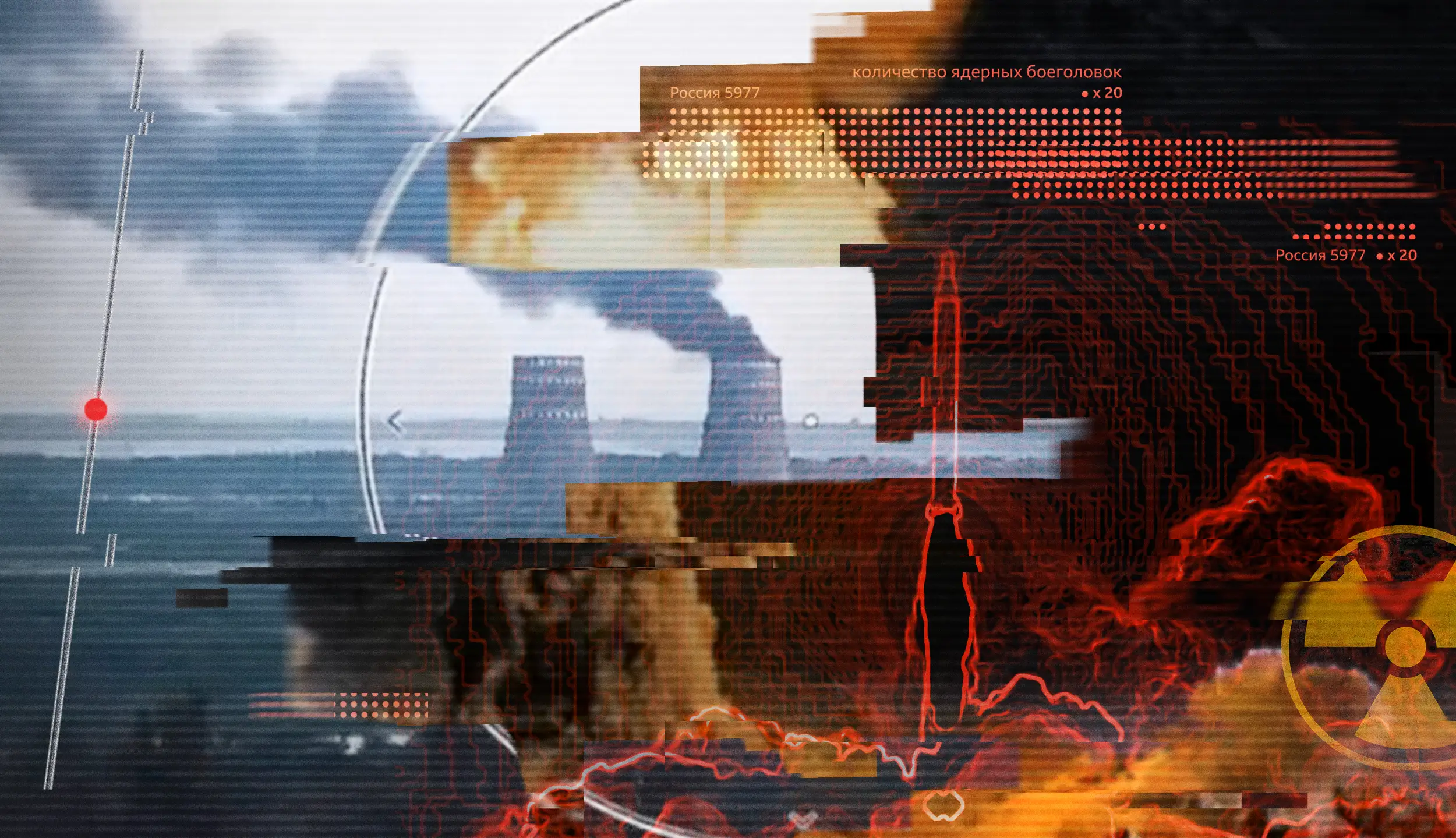Полномасштабное вторжение путинской армии в Украину завершило большой период как в истории двух стран, так и в истории Европы и всего мира в целом. Российское государство в лице военных, спецслужб и аффилированных с ними парамилитантных формирований (почему-то называемых «сепаратистами» и «добровольцами») развязало гибридную войну еще в 2014 году, но для многих начало полномасштабной войны стало огромным шоком. Одним из его проявлений является острокритическая переоценка политических, культурных и экзистенциальных условий, сформировавшихся на одной восьмой части суши не только за последние восемь–десять лет, но и за весь период постсоветской истории.
Предложенные ниже заметки не претендуют на то, чтобы быть репликой в каком бы то ни было споре. Скорее, это попытка представить работу осмысления и проблематизации антропологических и политических условий существования в последние 30, а может быть, и 50 лет. Одной из территорий этой работы была новейшая поэзия, то есть поэзия 1980–2010-х гг., и особый интерес для меня представляют тексты, в которых возникали реальные или символические образы войны. В поэтических текстах почти всех поэтов и поэтесс война предстает сюжетом преодоления социального и культурного антагонизма, который не мог и не может быть преодолен в реальности. Возможно, не все авторы и авторки согласились бы с таким определением, но линия, которая просматривается в результате сквозного прочтения их текстов, настойчиво указывает на стремление обозначить и исследовать конфликтную природу российского общества.
1980-е: «Но мы не знали…»
В конце 1979 года в столицу Афганистана был направлен «ограниченный контингент» советских военных, которые, согласно пропаганде, должны были заниматься чуть ли не миротворческой деятельностью. В действительности же советские военные полноценно участвовали в боевых действиях, но информация о подлинных задачах была строго дозирована даже для их родственников.
Уже в следующем году Иосиф Бродский откликнулся на эти события «Стихами о зимней кампании 1980 года». В этом пространном тексте конфликт между «ограниченным контингентом» советских войск и моджахедами предстает не результатом идеологических манипуляций, повлекших за собой затянувшуюся на десять лет кровопролитную войну, но вневременной ситуацией, стирающей с лица земли «семьи, частные мысли», оголяющей человека до элементарных рефлексов, вызванных страхом неминуемой гибели. Подобное восприятие войны человеком поколения Бродского вполне объяснимо, но свойственная ему оптика не свободна от ориенталистских стереотипов о Востоке. Современный Бродскому Афганистан здесь оказывается проекцией кавказских регионов Российской империи, представленных в литературе XIX века (недаром Бродский выбирает в качестве эпиграфа первую строку из стихотворения Михаила Лермонтова «Сон»).
Бродский был апологетом частного опыта, хотя его собственное поэтическое зрение часто выходило за пределы этой эстетической и политической установки. Более последовательно оптику частного человека представил в своих поэтических текстах Михаил Айзенберг. Он стремился показать, как в позднесоветский период отдельно взятый человек создает экзистенциальную опору буквально из воздуха, из ничего («только б выжать из воздуха камень/и на нем утвердиться стопой» — пишет он в одном из стихотворений). У Айзенберга человек совершает стоическое усилие, чтобы вытеснить себя из пространства идеологической интоксикации в пространство приватное, где он только и мог продолжать быть собой. Частное пространство было и остается для Айзенберга той сценой, где разворачиваются еле заметные конфликты, в которых глухо, но настойчиво отдаются исторические события:
В ту пятницу, а может, в ту субботу
(тупятница, пора тебе в работу)
Но мы не знали, говорю, не знали
Ни что хозяйка только что с поминок,
что пасынок убит в Афганистане,
не знали мы. А то бы мы ни стали
так разгоняться до ее прихода.
<…>
Она внесла взывание и свист.
Но паутиной я в углу провис
и от любого сквозняка качаюсь.
А серая звезда в моем мозгу
уже давно обшарила, печалясь,
своим лучом безвидную тоску
и уголки потерянного рая,
где по двое и по трое сидят
<…>
И мы остались в темной полосе.
Меня томил оставшийся излишек
чужой беды, застроченной в канву.
Перебродил и только душу выжег
на злом дыхании, на водочной слезе.
<…>
Это стихотворение датировано 1984 годом (то есть военные действия в Афганистане идут пятый год) и представляет частое для Айзенберга ограниченное пространство социальной вненаходимости. Только в нем частные лица (в том числе неподцензурные литераторы и художники) могут чувствовать себя относительно комфортно и безопасно. На первый план здесь выходит мотив неуместности, вообще характерный для поэзии Айзенберга 1980-х гг., стремящегося зафиксировать несовпадение между эмоциональным и интеллектуальным миром человека и статичной средой советского общества. В данном случае «неуместность» человека из неподцензурной среды накладывается на «чужую беду, застроченную в канву»: новость о том, что пасынка хозяйки квартиры убили в Афганистане. Метафорически помещающий себя в паутину герой стихотворения сталкивается с информацией, на которую не знает, как отреагировать, кроме стыдливого «мы не знали».
Через двадцать лет после Михаила Айзенберга, в совершенно иной информационной ситуации, к теме Афганской войны обращается Елена Фанайлова, ставшая к началу 2000-х гг. одной из значимых поэтесс, пишущих на социально-политическую тематику:
…Они опять за свой Афганистан
И в Грозном розы чёрные с кулак
На площади, когда они в каре
Построились, чтоб сделаться пюре.
Когда они присягу отдавать,
Тогда она давать к нему летит,
Как новая Изольда и Тристан
(Особое вниманье всем постам)
И в Ашхабаде левый гепатит
Он пьёт магнезию из общего бачка,
Железною цепочкой грохоча,
Пока она читает Отче наш,
Считая дни задержки у врача.
Лечение идёт своей чредой,
И он пока гуляет молодой,
Проводит дни, скучая и дроча
Ефрейтор N., постарше остальных,
Ещё салаг,
Знаток похабных дембельских наук,
Им разливает чёрного вина,
Поскольку помнит не из уставных
Параграфов, а как-то так:
Болезни грязных рук —
Проглоченные пули из говна
Общинный миф и коммунальный ад.
Она же в абортарий, как солдат,
Идёт привычным шагом строевым,
Как обучал недавно военрук
И делает, как доктор прописал.
И там она в кругу своих подруг.
Пугливых стройных ланей и дриад –
Убоина и мясокомбинат.
И персональной воли нет,
А только случай, счастье выживать.
А там в Афгане — пиво по усам,
Узбечки невъебенной красоты
Уздечки расплетали языком.
Их с ветерком катали на броне
И с матерком,
Чтоб сор не выносить вовне,
Перед полком расстреливал потом,
Точней, командовал расстрелом сам
Полковник, — этих, кто волок в кусты,
Кто за́ косы в кусты волок
И кто насиловал их по кустам,
Афганок лет шестнадцати на вид,
На деле же — двенадцати едва.
Насильникам не больше двадцати.
Родня не узнавала ничего.
И медленно спускался потолок,
Как будто вертолёт, под бабий вой
Теперь они бухают у реки
И вспоминают старые деньки.
И как бы тянет странный холодок
Физическим телам их вопреки.
Теперь любовникам по сорока,
Сказать точнее, мужу и жене.
Ребенку десять, поздно для совка.
Их шрамы отвечают за себя.
Другой такой страны мне не найти.
В этом стихотворении мы слышим одного из участников Афганской войны, рассказывающего шокирующую историю своего там пребывания (в комментарии к этому стихотворению Фанайлова говорит о его реальной подоплеке: разговоре, подслушанном ей на одном из пляжей под Воронежем). В неформальной обстановке мужчина вспоминает, по-видимому, начало любовной истории со своей женой, и эта история смешивается с унижением, сексуализированным насилием и цинизмом. Впрочем, поэтесса не выносит никаких оценок своему персонажу, стремясь сохранить естественную интонацию его речи, словно бы разламывающей ткань поэтического текста.
Фанайлова, как репортер, буквально находится в той же точке, где и ее персонажи, стремясь максимально достоверно передать их речь и моторику травмированных тел. Память о шокирующих событиях, участником которых был герой стихотворения, вплетается в повседневность и почти не противоречит ее спокойному течению. Фанайлова фиксирует, как война (Афганская, но и Чеченская: она пишет это стихотворение в разгар Второй чеченской войны) становится частью культуры, посредством насилия объединяющей малые и большие группы населения. Но все-таки нельзя отрицать, что советское вторжение «ограниченного контингента» в Афганистан не было должным образом отрефлексировано: этап общественного обсуждения этого трагического события был пропущен, оставив участников войны и их семьи один на один с негативным опытом.
1990-е: «Стихи о Первой Чеченской кампании» и не только
Начало девяностых годов ознаменовалось радикальными изменениями не только в столицах метрополии бывшего СССР, но и во всех регионах постсоветского пространства. В некоторых из них перемена общественного строя сопровождалась кровопролитными столкновениями между различными группами (как правило, этническими, в меньшей степени конфессиональными). Это и армяно-азербайджанский конфликт, на протяжении тридцати последних лет вспыхивающий все новыми военными действиями, отделение — при участии российских военных — Приднестровья от Молдовы, и столкновение узбеков и турков-месхетинцев в Ферганской долине и др. Последнему событию посвящено стихотворение Шамшада Абдуллаева (узбекского поэта, пишущего на русском языке) «Голоса»:
В тот вечер я читал «Восстание масс», еще не зная,
что они-то как раз в эти часы
поджигали дома. Говорят,
старуха металась в пламени, пытаясь
выбраться из комнаты (к ее спине – изголодавшийся красный зверь –
присосался огонь), но кто-то выстрелил ей в лоб
и помчался дальше вдогонку за человеческим мясом,
и эта рана — третьим глазом — укоризненно
взирала на враждебное зарево, уже не вникая
в угрозу гудящей красноты, в которой она сама
вскорости растворилась, словно подобное возможно:
смотреть и забыться. И земля, покрытая асфальтом,
кинулась прочь, убегая в панике от взбесившейся толпы.
Что-то похожее мы встречали в фильмах
не то Вайды, не то Роши, и кто-то сказал:
он старается доказать, что История не очищает,
что она повторяется и жаждет крови, потоков крови,
которые нас, увы, очищают, но лишь на время.
История — на сей раз не отвлеченная и зевающая книжность –
нагло спустилась с экрана и подмяла наш будничный эдем.
Теперь я знаю больше об этом, чем хотел бы. Я стоял,
ты стоял в стороне, но в окру́ге едва ли
осталась хотя бы одна сторона, обделенная смертью.
Углы жилищ и улиц были убиты, оклеветанные
своей же предательски чёткой достоверностью.
Грузовики и автобусы истошно кричали, точно их уводили на бойню.
Лишь светофор без устали мигал, почти вне себя,
прикинувшись светофором, и его
никто не трогал.
Так было всегда? Кто скажет? Ну, умники.
«Вот он я, Господи, весь перед тобой».
Мы, мы, грезившие о втором, о третьем Вудстоке, о царстве любви… Молчи.
Там лежали истлевшие платки, осколки тарелок, обрезки резных досок,
изувеченная кукла, лифчик, зубные протезы,
канарейка, всохшая в пепел; сиротливость, тишина.
Он (они) говорил очень тихо, будто голос
причинял ему боль. Когда появляется призрак,
сразу понятно: его нет, он мерещится. Но тут другое,
тут призраки не лгут.
Несмотря на изощренность интеллектуальных построений, лирический субъект Абдуллаева находится на одном уровне с восставшей толпой, поверяя свои глубокие знания и юношеские надежды экстраординарными событиями. Взгляд Абдуллаева в этом стихотворении близок взгляду травмированного свидетеля, неспособного повлиять на развитие фатальных событий, но также неспособного прекратить думать и говорить о них.
При этом стихотворение «Голоса» заметно отличается от других поэтических текстов Абдуллаева. Его фирменная бесстрастная интонация сталкивается с неконтролируемым страхом и последующей фрустрацией, которые приносит кровопролитный гражданский конфликт. Абдуллаев фиксирует исторический разлом, который нельзя преодолеть с помощью высокой культуры: голоса в его стихотворении оказываются чем-то опасным, чуждым и неподлинным, бесцеремонно врывающимся в медленный мир предместья.
Говоря о проблематике войны в поэзии 1990-х гг., важно подчеркнуть серьезную перемену отношения к Второй Мировой и Великой Отечественной войне. В девяностые годы она больше не рассматривалась как установочное для всех советских людей событие. Тогда в литературе и кинематографе появился ряд произведений, в которых пересматривались мифы о войне. Она представала в них уже не героическим, но дегуманизирующим событием (поздние романы Виктора Астафьева), или как пограничная ситуация, поверяющая не политическую лояльность, но человеческую состоятельность героев (повести Василя Быкова). Оба этих примера взяты мной из статьи филолога и социолога культуры Ильи Кукулина «Регулирование боли», в которой он, помимо уже названной демифологизации памяти о войне, выделяет еще один сюжет, непосредственно связанный с современной поэзией. По словам Кукулина, для дебютировавших в 1990-е годы молодых поэтов «война стала наиболее значимой и емкой метафорой экзистенциально дискомфортного опыта».
Что это значит? Военная метафорика, встречающаяся у авторов, которые не имели военного опыта, оказывается способом разрешения экзистенциальных противоречий. Речь идет о противоречиях, вызванных как фундаментальными вопросами о взрослении, любви и смерти, так и радикальной сменой общественных отношений после прекращения существования СССР (кризис идентичности, усложнение социальной структуры общества, эмиграция и др.).
Хорошей иллюстрацией может служить стихотворение рано ушедшей поэтессы Анны Горенко (1972–1999) «Перевод с европейского»:
Словно Англия Франция какая
Наша страна в час рассвета
Птицы слепнут, цветы и деревья глохнут
А мне сам Господь сегодня сказал непристойность
Или я святая
или, скорее
Господь наш подобен таксисту
Он шепчет такое слово каждой девице
что выйдет воскресным утром
кормить воробья муравья и хромую кошку из пестрой миски
А в хорошие дни Господь у нас полководец
И целой площади клерков, уланов, барменов
На языке иностранном, небесном, прекрасном
произносит такое слово, что у тех слипаются уши
Господи, дай мне не навсегда но отныне
мягкий костюм, заказанный летом в Варшаве
есть небольшие сласти, минуя рифмы
изюм, например, из карманов, и другие крошки.
Терезиенштадт, апрель 1943
По-видимому, это стихотворение стало последним законченным текстом Анны Карпы, взявшей в качестве псевдонима настоящую фамилию Анны Ахматовой. Стихотворение написано от лица молодой девушки, которая делится своими впечатлениями о солнечном утре в одном из европейских городов. Но датировка и место «написания» этого текста не позволяют воспринимать его только как образец прямого высказывания; отбрасывает тревожную тень и строка «птицы слепнут, цветы и деревья глохнут». Получается, перед нами монолог молодой девушки, которая еще не знает, что ее ждет в недалеком будущем.
В комментарии к этому стихотворению близко знавший Горенко поэт Владимир Тарасов пишет, что в нацистском лагере уничтожения в Терезиенштадте погибла старшая родственница Горенко. Так, поставив в качестве фиктивного места написания этого текста «Терезиенштадт 1943», Горенко подключает обманчиво бесхитростное стихотворение к нескольким важнейшим историческим нарративам. Это память о Второй мировой и — конкретнее — память о трагической семейной истории как страницы истории Катастрофы еврейского народа. Через эту память Горенко смотрит на свою лоскутную идентичность человека, совершающего интервенцию в другой язык и культуру.
Обсуждая тему войны в русскоязычной поэзии девяностых годов, нельзя пройти мимо поэмы Михаила Сухотина «Стихи о Первой Чеченской кампании», законченной в 2000 году. В этом уникальном тексте Сухотин доводит стремление сблизить литературный язык и повседневную речь до экстремальной точки.
Фактически поэма Сухотина представляет собой развернутый комментарий к реальным документам и свидетельствам очевидцев Первой чеченской войны, данных Международному Неправительственному Трибуналу и собранных обществом «Мемориал». Сухотин не считает нужным скрывать свою эмоциональную вовлеченность в разворачивающуюся катастрофу. Он становится посредником между читателями и образами первобытного насилия по отношению к гражданам Чечни. Сухотин стал одним из первых, кто подверг анализу поставляемые телевидением в 1990-е годы образы войны, которые часто были основаны на непонимании ее целей и умолчаниях о ее жертвах (впрочем, отрицать честность и самоотверженность ряда журналистов НТВ середины 1990-х – начала 2000-х гг. было бы неверно). Важно и то, что посвященная Первой чеченской войне поэма Сухотина написана в самый разгар Второй чеченской. Возвращение федеральных войск в Чечню стало важнейшей частью предвыборной кампании Путина и было с пониманием воспринято многими интеллектуалами всех поколений — к последним Сухотин обращается в стихах напрямую. Сухотин делает свою поэзию площадкой для объединения эстетической работы и социального анализа, за которыми — скорбь и сострадание к неоплаканным жертвам чудовищной бойни.
<…>
Я пишу это не для того, чтоб напугать или просветить,
но взгляните — что это за армия, кто живет рядом с нами.
Просто то, что тогда там произошло,
случилось и здесь, — только никто не заметил,
впрочем, всё впереди, а пока:
не было бомбежек после 23 декабря 94-го,
а до того и самолетов над Грозным не было
(если были, то не наши, чьи-то).
Нет у нас на вооружении никаких зажигательных снарядов
(напалм — а что это такое?),
и не применялось химическое оружие
(чьи там вертолеты сбросили на лес зеленые капсулы,
давшие поражение на коже?),
не было ни нападения на ингушскую Аршты,
ни недавней бомбежки приграничной Грузии
(кому там оторвало ноги?),
незарегистрированных фильтрационных пунктов нет,
куда пропали все эти призывники-подростки — не знаем
(у нас они не зарегистрированы, значит, их и не было).
Да вообще — какая война?! Не было войны,
всё это называлось «решение гуманитарной проблемы».
И нас с вами не было.
Вместо нас были граждане Российской Федерации
(имя отчество фамилия),
не возражавшие против того, чего не было.
Вот и сегодня «Небоевиков на улицах Чечни после 18-ти часов нет» —
так нам только что объяснили ракетный удар по рынку
в Грозном, где живых действительно никого не осталось.
Будущий президент прореагировал из Хельсинки:
ему об этом ничего не известно. Через день
поправился: рынок — это не рынок, а «рынок»,
то есть не мокрое место после 18-ти, а «рынок оружия».
<…>
Другой поэтический текст Сухотина о Чечне под названием «Одну минуточку» был написан на рубеже веков и в 2001 опубликован в антологии «Время Ч. Стихи о Чечне и не только». Используя в качестве эстетической рамки минутную паузу не очень здорового Ельцина во время подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси 8 декабря 1999 года, Сухотин видит в ней умолчание о ежеминутно совершаемом государственном насилии. В эпицентре этого насилия — площадь Минутка в Грозном, из-за отчаянных бомбардировок ставшая одним из символов обеих чеченских кампаний.
2000-е: «Меж грозненских руин…»
С середины 1990-х Виктор Кривулин — другой классик неподцензурной литературы — также вписывает свое творчество в рамку военно-политической катастрофы. На это, например, указывает подзаголовок одного из программных его сборников «Купание в иордани», первоначально опубликованного в Интернете («…новые тексты времен Чеченской кампании»). А последний прижизненный сборник Кривулина «Стихи юбилейного года» (2001) сегодня прочитывается как отчет о поражении историософских и культурологических концепций, которые поэт и его единомышленники выстраивали во второй половине XX века. В этих стихах мы видим свинцовую одномерность текущего момента, с которой неспособна совладать литература («или вижу в страшном сне —/старший прапорщик спецназа/потрудившийся в чечне/мучится: Не строит фраза/мысль не ходит по струне»). Особенно выделяется стихотворение «За ларьками», в котором до боли знакомые постсоветские реалии образуют плотную компрессию социального и исторического бедствия:
отойдет человек ненапрасный
за ларьки от заряженных водок
территория мира, пустырь
где заря да лазурь да солдат-первогодок
(вечно расхристанный полуголодный старообразный)
горсть патронов меняет на дурь
Ближайший товарищ Кривулина по ленинградскому литературному андеграунду Сергей Стратановский обращается к эпической оптике хрониста. В вышедшем в 2002 году сборнике «Рядом с Чечней» Стратановский создает хронику бессмысленного насилия, низводящего всех ее участников до уровня биологических тел. Дегуманизированные герои Стратановского неспособны к персональному свидетельству. Именно поэтому их лишенную индивидуальных черт речь заимствует для своей трагической хроники поэт-историк, который, преодолевая одновременно отвращение и сострадание, фиксирует распад элементарных структур жизни во время войны. Сборник открывается страшным стихотворением:
Собаки Грозного,
бесхозные и злые,
Меж грозненских руин
зубами рвут погибших,
Вчерашних королей
дворов и дискотек.
У Стратановского смычка выраженных в последней строчке сугубо мирных и даже трогательных деталей с натуралистическим поеданием собаками мертвых солдат создает эффект шока. Но метод Стратановского, писавшего свою поэтическую хронику на протяжении обеих чеченских войн, этим эффектом не ограничивается. Он стремится создать стереоскопическую картину войны, в которой документ соседствует с мифологией. В его текстах начала 2000-х говорит некое хтоническое «мы», стремящееся подавлять и уничтожать все чужое и незнакомое, что попадется на пути:
Ухо врага чернолицого
Лично убитого
в дальней земле некрещенной
Ухо отрезанное аккуратно
В рушничок холщовый,
добротканный, завернутый аккуратно
Воин, с фронта вернувшийся, дарит
А потом отбирает
и в черном бреду алкогольном
Поедает прилюдно
В какой-то момент война в поэзии Стратановского практически лишается конкретики, становясь бесконечно длящимся конфликтом, где одно фатальное сражение почти неотличимо от другого.
Несколько иначе преломляется военная метафорика в поэзии Демьяна Кудрявцева, который начал писать стихи еще в начале 1990-х, но активно публиковаться как поэт стал уже в 2000-е. Кудрявцева интересует не расколотая идентичность, но героическая субъектность, вовлеченная в активную работу по изменению мира. Конфликт, распря является первоэлементом рисуемого Кудрявцевым мира:
вечером когда навстречу смерти
из предместий приезжают черти
чтобы умереть не в хасавюрте
чтоб не умереть в степанакерте
вот на встречу им бритоголовы
здесь у них и логово и слово
поле битвы ругани и брани
между детским садом и столовой
вот слова написаны в ворде
вот братва утоплена в воде
иногда мне кажется что родина
вроде не кончается нигде
Этот текст начинается с упоминания двух населенных пунктов, навсегда сцепленных с постсоветской историей войны. В городе Хасавюрт был подписан мирный договор, формально и на время завершивший Первую чеченскую войну, а город Степанакерт был одним из центров военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Вторая строфа, начинающаяся с упоминания «бритоголовых» (то есть радикальных националистов), настроенных против «чертей» (это оскорбительное слово использовалось в националистических кругах для обозначения выходцев с Кавказа), показывает, что конфликт не может быть закончен никогда. Этот конфликт и есть «родина», которая «не кончается нигде» (сегодня мы знаем, насколько опасна эта формулировка, по одиозному выражению Путина «границы России нигде не заканчиваются»). Кудрявцев в своих стихах стремится литературными средствами разрешить принципиально неразрешимый антагонизм между прошлым и будущим (войной и миром, etc.), раздирающий постсоветское общество на протяжении всего существования.
Обсуждая гражданскую поэзию двухтысячных, нельзя пройти мимо поэмы Станислава Львовского «Чужими словами». Монтажный текст написан Львовским по горячим следам пятидневной российско-грузинской войны, которая предстает у него информационным событием, сотканным из множества «чужих слов», от цитат из Фридриха Гельдерлина до выдержек из разговоров в барах. Одна из нитей этого информационного клубка ведет к исторически предшествующим сюжетам, в которых империалистическая или фашистская агрессия направлена на небольшой регион или политическое сообщество. Оно заведомо обречено на поражение, но не сдается до последнего.
Львовский подчеркивает трудность выражения современной войны при помощи литературных (поэтических) средств. Это отчаяние по поводу того, что нет «ни одного человека, который может выразить ситуацию человеческим языком». Эта невозможность выражения связана не столько с шоком от милитаристского варварства, но и с противоречивыми фактами и токсичной информацией о войне, которые не проясняют, но, напротив, размывают событие, превращая его в совокупность медиаобразов.
2010-е: «Насыпает город-прах во врагов смертельный страх»
Начало второй декады XXI века ознаменовалось массовыми протестами против политического курса РФ. Их триггером стала т. н. «рокировка», когда в результате подковерных договоренностей и сфальсифицированных выборов Путин снова стал президентом, сменив на посту Дмитрия Медведева. Это был шаг к последовательному наращиванию консервативных политических тенденций и юридических инициатив, начатому в 2013 году. Первыми были законы, фактически направленные против усыновления детей иностранными гражданами и ЛГБТК-сообщества (30 ноября 2023 года Министерство юстиции РФ признало «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией, объявив, по сути, всех негетеросексуальных людей в РФ вне закона). Из сегодняшней перспективы подобные инициативы, наряду с увеличением военного бюджета и интоксикацией различных общественных страт разными видами «патриотизма», невозможно не рассматривать как создание идеологической и законодательной базы для будущего полномасштабного вторжения.
Между 2011 и 2013 годами, когда идеологические и репрессивные аппараты российского государства только адаптировались к новой ситуации, было возможно существование некоторых альтернативных форм политической и культурной деятельности. На пересечении активизма, современного искусства и стремления помыслить совместное будущее выросло немало проектов и инициатив: самым известным примером, по видимому, здесь можно назвать панк-молебен Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. В поэзии в эти годы появляется новая политизированная генерация авторов и авторок, претворивших протестную энергию в эстетическую форму. Порой критический импульс приобретал изощренный характер — как, например, в этом стихотворении Эдуарда Лукоянова:
губная помада в магазинах «рив гош» это чечня растерзанная снарядами
зубная паста «колгейт» это приморские партизаны убивающие мента
чипсы «лейс» это коктейль молотова брошенный в рожу беркутовца
«сникерс» по цене три за два это ингушский мальчик скачивающий порно
«уаз-патриот» это кодорское ущелье между зрачками влюбленных
скидка на крем для бритья это тренировочный лагерь для боевиков имарата кавказ
бразильские сериалы это полигон для испытания истребителей пятого поколения
голанские высоты это пачка жевательной резинки «стиморол»
сирия это гель для душа с ароматом жожоба
конго это отбеливающая зубная паста с повышенным содержанием фтора
сомали это мягко словно бархат
мы никогда не перешагнем через «уаз-патриот»
потому что «уаз-патриот» это сама вечность
невозможность угла
невозможность кодорского ущелья голанских высот и чипсов «лейс»
у нас не осталось гражданского долга
На первый взгляд может показаться, что это довольно предсказуемое стихотворение, в котором название бренда соединяется в с трагическим или протестным событием. Какова цена беззаботной жизни среди ставших неотъемлемыми частями жизненного мира современного человека уютными вывесками и углеводными бомбами, которыми невозможно насытиться, — кажется, именно этот вопрос ставит перед нами автор.
Но все не так просто: критика Лукоянова направлена не столько на мир потребления, сколько на производящее эту критику ангажированное сознание, которое может вполне комфортно существовать внутри этого мира. Именно поэтому во второй строфе Лукоянов делает парадоксальный ход, вспоминая про «уаз-патриот», широко используемый полицией и в военных операциях. Зачем Лукоянову нужно так резко рвать шаблон, отходя от структуры привычного ангажированного стихотворения? Стремление выбить почву из под ног читателей — это стремление напомнить, что военные конфликты по всей планете, как и затянувшаяся темная история России, тонут в словах и делах интеллектуально ленивых благополучных людей.
Консервативный поворот в России после 2013 года коснулся и политики исторической памяти. Ее опорой стал государственный нарратив о полной и окончательной победе в Великой Отечественной войне. Все это вызвало активное противодвижение в культуре, включая поэзию. Одним из центральных исторических сюжетов, подвергшихся критической ревизии в противовес государству, стала ленинградская блокада, о которой на рубеже 2000-х и 2010-х гг. выходит множество исследований и художественных произведений. Их авторы стремились представить непроговоренные стороны блокадной жизни и увидеть историю XX века сквозь призму этого катастрофического периода советской и мировой истории. Так, например, Полина Барскова обращается к повседневным ленинградским реалиям блокадного времени, при этом ее подход с полным правом можно назвать антропологическим. В своих поэтических текстах она рассматривает скрытую от постороннего и исследовательского глаза «стыдную» жизнь деградирующих тел и умов. Часто ее героями становятся реальные герои Серебряного века или интеллектуалы авангардной эпохи, сросшиеся с историей до физиологической неразличимости:
Л. П. — Присутствие
Наша Маша
С ума сошла
Суровый Хармс вино пригуби́л
10 января: пороша, параша
Украли карточки!
Украли карточки!
Думаю — сам обронил,
Сам себя пригубил,
Если бы не Маршак…
Лежишь на полу — рядом сладкой кишки крошка,
Лежишь на полу — рядом сладкая «Крошка Доррит»,
Все помыкаются, попресмыкаются, конец будет делу венец.
Желудок жалобно подчиняется Диккенсу:
Ворчит, мурлыкает, блазнит, вздорит,
Живёт магической, инфернальной жизнью,
Как в горе́ — мерцающий кладенец,
Как в го́ре — в самом нутре
Рождаются 2–3 слова,
Но не просьбы, не жалобы, не угрозы,
Вылазят, выползают неудержимо — словно ночь из сердцевины дня:
Ты создал меня такого
Ты создал меня сякого
Только Тебе доверяю
Смотреть меня держать меня свежевать меня
Это стихотворение открывает цикл Барсковой «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков, 1941–1945». По сути, перед нами внутренний монолог вполне официального советского писателя Леонида Пантелеева, автора известной каждому советскому школьнику повести «Республика ШКИД» и других книг для детей и юношества. Как и многие писатели, не смогшие сразу выехать из осажденного Ленинграда, Пантелеев оказался в тяжелейшей ситуации: лишившись продуктовых карточек, он был обречен погибнуть от голода (но был эвакуирован в 1942 году).
Барскова фиксирует Пантелеева в пограничной ситуации между жизнью и смертью, в измененном от голода состоянии сознания. В ее стихотворении реалии Блокады («Украли карточки!») смешиваются с видениями из прошлого («Суровый Хармс вино пригубил») и далекого будущего. Заканчивается оно отчаянным обращением к создателю, неожиданным в устах верующего, но сдержанного Пантелеева. Фигура советского писателя обнаруживает в себе трагическое сознание XX века, находящегося в ситуации постоянного самоопределения. Здесь Барскова не ограничивается историко-литературной задачей и применяет полученное знание о человеке для создания антропологических портретов наших современников.
Блокада была своего рода «точкой входа» в ревизию советской истории и у Виталия Пуханова в его стихотворении «В Ленинграде на рассвете»:
В Ленинграде, на рассвете,
На Марата, в сорок третьем
Кто-то съел тарелку щей
И нарушил ход вещей.
Приезжают два наряда
Милицейских: есть не надо,
Вы нарушили режим,
Мы здесь мяса не едим.
Здесь глухая оборона.
Мы считаем дни войны.
Нам ни кошка, ни ворона
Больше в пищу не годны:
Страшный голод-людопад
Защищает Ленинград!
Насыпает город-прах
Во врагов смертельный страх.
У врагов из поля зренья
Исчезает Ленинград.
Зимний где? Где Летний сад?
Здесь другое измеренье:
Наяву и во плоти
Тут живому не пройти.
Только так мы победим,
Потому мы не едим.
Время выйдет, и гранит
Плоть живую заменит.
Но запомнит враг любой,
Что мы сделали с собой.
Возможно, Виталий Пуханов — наиболее традиционный поэт из представленных здесь. Он рассматривает проблематику войны и других советских мифов, деконструируя язык советской поэзии и заставляя его высказывать отчаянно травматичные вещи (например, о явных или неявных намеках на каннибализм в блокаду, как в представленном выше стихотворении). В отличие от реваншизма т. н. Z-авторов (поэтов, появившихся после вторжения России в Украину и оправдывающих эту войну в стихах), он показывает потенциал насилия, скрытый в советских и современных империалистических фантазиях о российской истории.
Еще один автор, напрямую затрагивающий проблематику войны в своей поэзии, — Дмитрий Гаричев. Конфликт, конфронтация возникают практически в каждом его поэтическом тексте. В его стихах соседствуют две тенденции: он одновременно использует образ войны как пространства острого экзистенциального конфликта и опрокидывает эту ситуацию на российскую историю конца XX – начала XXI века. В этой войне сходятся различные силы, которые можно обозначить как «мы» и «они», «старые» и «молодые», «мужчины» и «женщины» и т. д. и т. п. В основе этого конфликта лежит драма тех, кто не вписался в крутые повороты российской истории: особенно это касается 1990-х годов. Гаричев дает возможность высказаться тем, кого история оставила в прошлом: это не всегда приятные речи, но их необходимо услышать. Вот, например, стихотворение, в котором сквозь сцены взросления подмосковных тинейджеров проявляются образы и картины неутихающей войны:
русскую школу отжали, но прилежащее к ней
неудобное поле осталось нам.
мы приходим сюда как воры, в полдень одни,
помахать что есть сил не продавшемуся физруку.
чистый тельник на нем, и голос его, в черных кустах сквозя,
сотрясает осени первое молоко:
прохоров, че ты там рыщешь; сёмин, ко мне бегом;
феоктистов, я все вижу блядь; афанасьев, куда ты полез?
и мы тоже смотрим и ждём несколько минут,
но на поверхность к нам не является ни один.
ни с мостовых детройта, ни из ливанских песков,
ни с киржача, ни с лакинска выдачи нет.
только учителя и выживут, говорю;
будь к ним послушна, им здесь страшнее всех.
В феврале-марте 2014 года Российская Федерация аннексировала и оккупировала Крым. Помимо грубого нарушения международного права, это событие стало началом гибридной войны, развязанной российским руководством против Украины. Одним из первых произведений, исследующих не только событийность войны, но и ее археологию, стала поэма Марии Степановой «Война зверей и животных». Стремясь запечатлеть — собрать — новую культурно-историческую ситуацию, Степанова удерживает две перспективы на событие войны: с одной стороны, война является константой, сохраняющейся на протяжении всего исторического времени, с другой — разворачивающейся здесь и сейчас катастрофой, обрамленной бэкграундом постсоветского субъекта и включенной в медиалогику настоящего момента.
Другой способ письма о войне в том же 2014 году предлагает Галина Рымбу:
«Это не война» — сказал в метро один подбритый парень
другому парню, бритому наголо.
«Нет, не война, — говорят аналитики, — так, кое-какие действия».
«Территория происходящего не вполне ясна», — констатируют в темноте товарищи.
«Война — это иначе», — сказал, обнимая ты. «Можно не беспокоиться», —
с уверенностью говорят правительственные чиновники в прямой трансляции
по всем оставшимся телеканалам, но кровь
уже тихо проступает на их лбах, возле ушных раковин —
тонкие струйки, пока изо рта не забьет фонтан.
Мы договаривались
сидеть тихо, пока не поймем, что происходит. Ясности не прибавилось
и спустя 70 лет, ясности не прибавилось.
Тревога, тревога, оборачивающаяся влечением. Множество военных конфликтов
внутри, во рту, в постели; в одном прикосновении к этому — терпишь крах.
Настойчиво-красным мигают светофоры, навязчиво-красные флаги
заполнили улицы одной неизвестной страны. Смутные мертвецы,
обмотанные георгиевскими ленточками, сладкие мумии в опустевших барах и ресторанах
приятный ведут диалог — о возможности независимого искусства и новых форм,
о постчеловеческом мире, о сыре и вине, которое растопит
наши сердца, сердца «отсталых». Пока вирус окраин, вирус границ
уже разрушает их здравый ум, милый разум. Вот вопрос —
Сколько сторон участвует в этой войне сегодня?
Не больше и не меньше, не больше и не меньше. Прозрачный лайнер
пересекает границы нескольких стран. Внутри — раздувшиеся от жира и страха правители
смотрят вниз, над черными тучами гнева и ненависти,
совершая последний круиз. Те требования, что выдвинуты против нас
с гулом проваливаются в темный пустой пищевод.
Орудия, направленные внутрь себя. Внешние конфликты — во множественных
разрезах, провалах, паралич памяти, страх рождения — все собирается в единый момент.
Мертвых птичек России и Украины внесли теперь на досках сырых.
Скелеты валют на мертвой бирже, материя, плотно осевшая в ночи мира. . . —
Снова знакомые песни услышу я,
Снова весенние улицы боевых полны антифа.
Снова могу любить тебя,
Снова и снова, пока не исполнится миром ночь мира,
Не откроется наша победа.
Здесь Рымбу стремится высечь из наэлектризованного конфликтом пространства революционные элементы совместного действия, словно они могли бы запустить движение к разрушению порядка, в основе которого лежит несправедливость.
Ровно через восемь лет гибридная война переросла в войну полномасштабную. Развернувшееся варварство породило множество поэтических текстов, многие из которых носят реактивный и, если так можно выразиться, коммунитарный характер. Антивоенные и поддерживающие Украину русскоязычные авторы и авторки пытались и пытаются дать знать о себе коллегам и читателям, подтвердить, что они не одни. Прочтение этих текстов — дело будущего, если оно настанет.