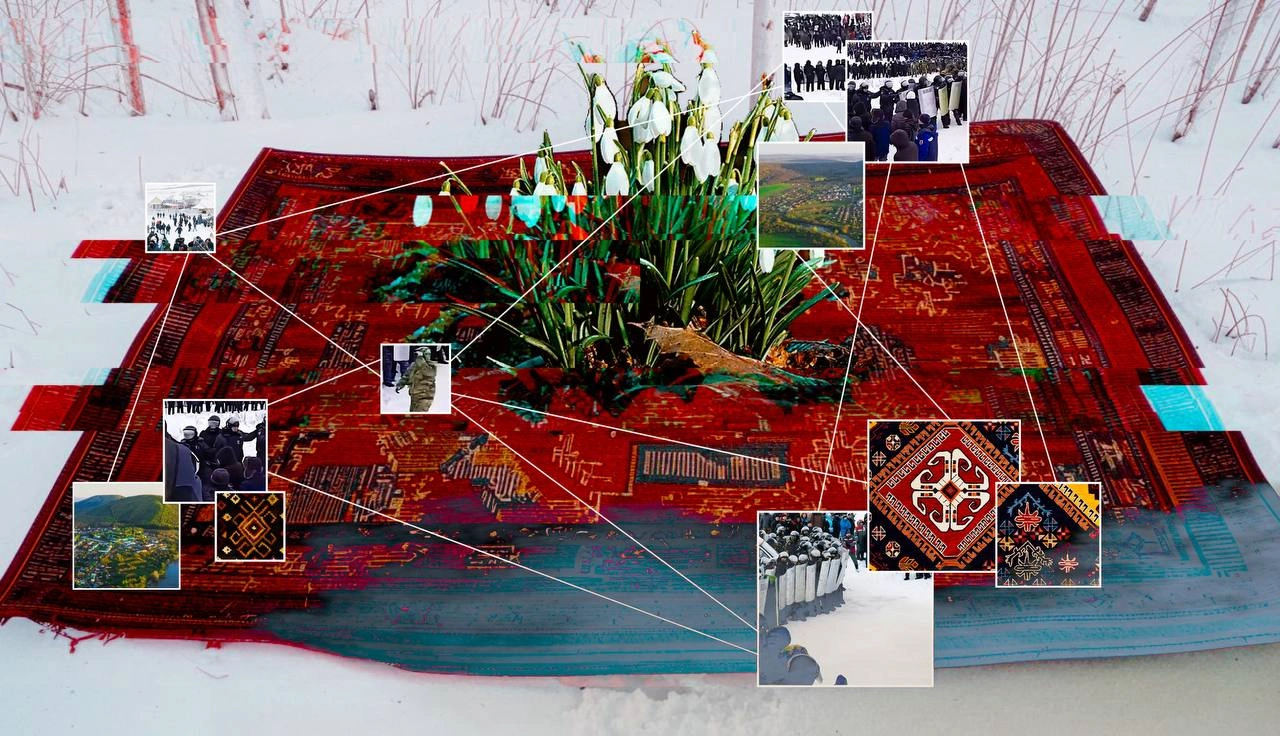— Что сегодня происходит с российским православием?
— Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к двум идеологемам, которые сегодня доминируют в публичной риторике РПЦ: дискурс «русского мира» и Z-дискурс. Начнем с «русского мира».
В марте 2022 был опубликован знаменитый богословский документ — «Волосская декларация» — где более 100 православных богословов со всего мира анафематствуют идеологию «русского мира» как ересь, добавляя, что эта идеология уже встроена в теологический код РПЦ.
Некоторые теологи, в частности Андрей Шишков и Наталля Василевич, справедливо указывают, что подобное осуждение бьет мимо цели. Ведь само учение о русском мире крайне расплывчато, и не очень понятно, о каком вообще богословии можно говорить в рамках этого учения. Если мы просто посмотрим на то, что говорят патриарх Кирилл, митрополит Тихон (Шевкунов), протоиерей Андрей Ткачев и другие официальные спикеры РПЦ, то мы с удивлением обнаружим, что они не говорят ничего специфически богословского. Антимигрантская, государственническая, милитаристская, гомофобная, про-лайф, патриархатная, антизападническая риторики — это типичнейшие и тривиальнейшие примеры секулярно-политических риторик, не имеющих ничего общего с богословием как таковым.
Само понятие ереси подразумевает систему богословских идей, отвергаемую Церковью. Получается, что когда часть православных клеймит учение о «русском мире» как ересь, их высказывания бьют мимо цели. Идеология «русского мира» просто не дотягивает до статуса «ереси», потому что в ней ничего богословского.
— Но какие-то содержательные ориентиры для понимания идеи «русского мира» все же намечают?
— Недавно я наткнулся на видео, где командир спецназа «Ахмат», чеченец и мусульманин, выступает перед своими подчиненными, которые держат в руках в том числе флаги с надписями «Русский мир». Как к этому относиться, как с этим работать?
«Русский мир» сегодня — идея даже не особо популярная в Z-ресурсах. «Русский мир» — лишь одна из идеологем Z-дискурса. Поэтому гораздо интереснее поговорить о Z-идеологии [всей совокупности высказываний в поддержку «специальной военной операции» против Украины].
Если мы возьмем Z-дискурс, то увидим, что он совершенно одинаков у патриарха Кирилла, муфтия Чечни, российских протестантов, неоязычников и русских националистов. Во всех случаях транслируется абсолютно идентичный посыл: Россия — твердыня всего хорошего, «СВО» ведется не против Украины, а против всего Запада, в частности против ЛГБТК+ ценностей. Для Z-дискурса эти ценности и есть самое страшное: упоминание однополых браков или транссексуалов служит последним, решающем аргументом в любом споре вокруг «СВО». Патриарх Кирилл еще в начале конфликта назвал его «метафизической войной» со злом, в центре которого — гей-парады. Муфтий Чечни тогда же сказал, что идет джихад «против греха народа Лута» [прим. гомосексуальности].
— Как бы вы охарактеризовали сложившиеся на данный момент отношения церкви и государства? И почему, на ваш взгляд, эти отношения приняли такую форму?
— Если свести к одной краткой формулировке, то русская церковь сейчас является жреческой ритуальной организацией, сакрализующей наличный социально-политический порядок. Генезис этого процесса можно объяснять по-разному. Например, британский религиовед Мэттью Вуд знаменит своей концепцией «продвинутой секуляризации». По сути, он опроверг постсекулярную теорию, т.е. позицию, что роль религии в жизни современных обществ заметно возрастает, что религия якобы возвращается в социально-политическое поле после долгой атеизации. Вуд убедительно доказывает, что происходит ровно противоположное: секуляризация продолжается, да так, что сами религиозные организации начинают секуляризироваться изнутри.
Приведу пример: в Москве есть протестантский пастор, 99% проповедей которого пропагандируют походы в качалку. Какой вообще в этом смысл? Церковь Христова, собранная вокруг Слова Божьего, призвана быть представительством небесной политии, «не от мира сего». Когда в церкви начинают пропагандировать ЗОЖ и качалку, то зачем нужна церковь? С российским православием та же история. Огромное миссионерское внимание сосредоточено, например, на военно-патриотических молодежных клубах: давайте собирать автоматы Калашникова и организовывать походы в лес. Причем тут Отцы Церкви, Евхаристия, учение о единстве Бога в трех лицах?
Начиная с эпохи Просвещения вплоть до 1970-х секуляризация работала как вытеснение религиозных организаций из социально-политической жизни. Теперь же сами религиозные организации воспроизводят секулярные дискурсы. И русская церковь — лишь один из многих примеров этого тренда.
— Выходит, что сегодня важны просто внешние атрибуты религии, а не она сама? Религиозные организации дают людям иллюзорное чувство принадлежности к большой традиции, к «большим нарративам»?
— Я так не думаю. Нужно констатировать: религия умирает. Религия умирает настолько, что даже на собственной территории ей самой уже не интересно. Когда-то было интересно практиковать созерцание нетварного света, Иисусову молитву, сведение ума в сердце — все то, что Фуко объединил в понятие «практики себя». А кому это сейчас интересно? Вот выступать против геев или за русское государство — тут люди зажигаются.
Получается, что сами религиозные институты, чтобы как-то выжить и остаться на плаву, воспроизводят эти «триггеры». Чем мотивированы, скажем, заявления патриарха против мигрантов? Мне кажется, желанием как-то вписаться в повестку, в политические тренды. Паразитировать на различных секулярных событиях — это способ религиозных институтов остаться на виду. Я слежу за проповедями патриарха и некоторых других спикеров РПЦ. Там уже давно нет чего-то, что напрямую связано с православием. Святая Русь, русская нация, «традиционные ценности» — все эти элементы вообще не связаны с православием как таковым и даже с религией в принципе.
Отвечая на конкретный вопрос об отношениях церкви и государства в России: нет никакой «симфонии» как согласного, гармоничного союза светских и церковных властей [концепция симфонии; συμφωνία), сформулированная Юстинианом I, особенно прижилась в восточном христианстве. Эта концепция выражает идеал гармоничных отношений между церковной и светской властями]. «Симфония» подразумевает взаимную потребность друг в друге, а государству церковь не нужна. Церковь для государства — это что-то вроде «Газпрома» или федерального канала, куда сливают инструкции, т.е. лишь еще один инструмент обеспечения господства над обществом.
— Есть ли в такой ситуации у русской православной церкви какой-то выход?
— Если кратко, то можно было бы сформулировать так: от церкви должны отстать, нужно перестать ее проституировать. Церковь должна остаться сама с собой, наедине с евангельскими и святоотеческими текстами. Те, кто останутся в церкви после того, как от нее отстанут, увидят радостную, наполненную совершенной любовью красоту этих текстов. И тогда все снова «взорвется», а у церкви снова появится шанс стать церковью в собственном смысле слова — то есть телом Христовым, ожитворенным Святым Духом. А не странным идеологическим аппаратом, внутри которого детей учат собирать автоматы.
— Представим, что это случилось. В этом светлом будущем у церкви есть какая-то социально-политическая задача? Или же церковь — это лишь место культивации духовных практик?
— Духовные и социально-политические практики не противоположны друг другу. Более того, они друг друга предполагают. Именно в духовных практиках — обожении, созерцании нетварного света и других высших мистических состояниях, известных восточному христианству, — именно там открывается опыт совершенной личностной любви, который затем проецируется на все общественные отношения. Такова классическая модель, изложенная Отцами Церкви — например, Иоанном Златоустом или Симеоном Новым Богословом — великим мистиком и одним из самых радикальных коммунистов во всей истории. (Здесь можно напомнить, что верность Отцам Церкви конституирует православие в его отличии от других христианских конфессий). Это святоотеческое наследие четко показывает, что церковь сама по себе является политическим сообществом, альтернативным всем мирским сообществам.
Последние великие православные теологи прошлого и текущего века — Флоровский, Мейендорф, Хоружий — ясно показали, что политическая теология православной церкви основана не на концепции симфонии, а на оппозиции Империя — Пустыня. Люди выходят за пределы грешного имперского порядка и организуют там альтернативную, контримперскую общину в пустыне [Понятие «пустыни» означает здесь любое физическое пространство вне границ империи/царства. Пустыня есть «девственная земля» (Флоровский), где можно построить новое, анти-имперское Царство Христово].
В этом смысле Церковь несет в себе образы и опыт по-настоящему альтернативной жизни на всех уровнях. На вопрос, почему христианство еще не распространилось среди всех народов, Иоанн Златоуст отвечает так: потому что мы сами еще не христиане, ведь мы по-прежнему поклоняемся власти и золоту. Если бы мы жили по-христиански, в общности собственности и труда, тогда бы все народы узнали, насколько это прекрасно, и присоединились бы к нам.
Получается, выход из кризиса продвинутой секуляризации, о котором шла речь выше, уже давно найден Иоанном Златоустом. По Златоусту, христианские общины должны сами собой и внутри себя являть новый социально-политический порядок, который столь прекрасен, что в какой-то момент заполняет собой все общество. Но беда в том, что мистико-аскетическое ядро православия — то самое, что способно вдохновить на радикально иное сообщество — остается неизвестным, а поэтому невостребованным. Православие только предстоит узнать, и мы сразу его полюбим.
“Церковь несет в себе образы и опыт по-настоящему альтернативной жизни на всех уровнях”
— Вы сформулировали модель: христианское сообщество, занимаясь духовными практиками и являя новый способ жить вместе, привлекает своей красотой окружающий мир, как бы мирно втягивает его в себя. Но есть и другая модель, реализуемая, например, т.н. «левым христианством»: христиане не замыкаются в общине, а выходят в мир, борются за свободу от угнетения. Эти модели противоположны?
— Словосочетание «левое христианство», на мой взгляд, вредно тем, что оно создает впечатление, будто христианство само по себе не левое. Левое христианство — это как масло масляное, тавтология. Тексты Ветхого и Нового заветов, святоотеческие тексты — радикально левые: они наполнены месседжами отрицания частной собственности, государства, насилия, расовых или социальных преград.
Христианство учит, что этот мир — падший, что он лежит во зле. И, мне кажется, это лучше всего подтверждается самим существованием государства и частной собственности. Господь сотворил все общим — после грехопадения воры-собственники присвоили себе то, что должно быть общим. Господь создал нас свободными без закона и без власти — грехопадение приводит к тому, что появляется закон и власть. Грехопадение — это не что-то абстрактное, это богословский концепт, схватывающий наличие структур угнетения в нашей реальности. Умирая на кресте, Христос нас спасает и тем самым дает возможность уже здесь и сейчас выйти из падшего мира и воскреснуть в новой, альтернативной жизни. Это и происходит в раннехристианских и монашеских общинах.
“Тексты Ветхого и Нового заветов, святоотеческие тексты — радикально левые”
— И эти общины имеют политическое значение?
— Да. Мы испорчены концептуальным аппаратом модерна, как будто бы о политике можно говорить только в терминах государства и нации. Политика — это область межчеловеческих связей, она касается того, как жить в сообществе. Сообщества бывают разные. Например, можно выйти из «империи» и организовать альтернативное сообщество в «пустыне», если пользоваться терминами православного богословия — и это тоже политика.
Между прочим, некоторые левые теоретики анархистского толка (скажем, коллектив авторов, названный «Невидимым комитетом») по-своему приходят к этой мысли. Нужно, говорят они, выйти из дискурса о государстве и перестать грезить о революции, участники которой берут государство в свои руки или разрушает его. Вместо этого нужно создавать здесь и сейчас зоны альтернативной жизни, которые в конце концов поглотят «империю».
Ту же логику воспроизводит Иоанн Златоуст, на тот момент архиепископ Константинопольский, то есть епископ имперской столицы. Он обращается к пастве: смотрите, ранние христиане жили совершенной жизнью в общности собственности, денег и труда, у них это получилось. И даже сейчас, спустя столетия, говорит Златоуст, есть монашеские общины, которые живут этой же совершенной жизнью в любви и братстве. А мы — не живем так, поэтому мы христиане только по имени, но не по делам. Давайте мы здесь и сейчас (в имперской столице) обобществим собственность, отменим деньги и будем жить в любви и братстве.
Говоря нашими словами, Златоуст просто предложил ввести коммунизм здесь и сейчас. Затем он усмехается: «Ну я, наверное, уже надоел вам этими этими проповедями, вы еще не готовы к такому. Ну давайте мы хотя бы перераспределим доходы богатых в пользу бедных». Кстати, по оценке историка и философа Георгия Федотова, в ранней Византии была создана система институтов социального призрения, аналога которой мир не знал вплоть до XX века.
— Насколько я знаю, левые авторы сегодня не так уж часто вступают в явный союз с христианством. На ваш взгляд, это проблема или преимущество?
— Мне кажется, любой по-настоящему развернутый и продуманный левый дискурс рано или поздно будет надстроен или докручен религиозно. Можно как угодно относиться к религии, но ее просто так не выбросишь за борт. Человек — насколько он известен истории — всегда был существом политическим, созидающим, познающим и религиозным.
“Нужно создавать здесь и сейчас зоны альтернативной жизни, которые в конце концов поглотят «империю»”
Важно сказать, что левые мыслители модерна борются против модерной же версии религии как служанки трона, оправдывающей крепостное право, войны и тому подобное. При этом сами основания левого дискурса исторически лежат в христианстве. Бакунин начинал как христианский анархист, и свой анархизм прямо заимствовал у православного мыслителя Константина Аксакова. Французский социализм Фурье и Сен-Симона — явно религиозный.
Повторюсь, в современной русской церкви, в том образе, который представлен в медиа, нет и намека на духовные практики или мистику любви и братства. Но чем больше сами левые будут думать об этом мистико-аскетическом ядре христианства, тем вероятнее, что они станут открывать его радикальный, политический месседж. И на самом деле это в последние десятилетия происходит — по крайней мере, у авторов широких левых ориентаций.
Например, Фуко в поздний период своего творчества, как известно, изучает «практики себя», аскезу. Он обращается к таким текстам, как «Пир десяти дев или девстве» Мефодия Патарского, «Собеседования» Кассиана и так далее — прямо обращается к ключевым текстам восточного христианства. Фуко, безусловно, атеист, но его горячий интерес, можно даже сказать поворот к христианской аскетике в последние годы его жизни нельзя игнорировать.
В том же ряду популярный некогда Ролан Барт, который в курсе лекций «Как жить вместе» внезапно начинает говорить про анахоретов [прим. отшельников] и киновитов [прим. монахах, живущих в коммунах]. Коммунист и маоист Ален Бадью пишет книгу об апостоле Павле. Во многих текстах Славоя Жижека, материалиста и атеиста, встречаются главы или отдельные пассажи про христианство в очень симпатизирующем духе, часто он просто создает тексты, не отличимые от теологических. Или возьмите «Высочайшую бедность» Джорджо Агамбена, чьи книги всегда вызывали интерес у левых, о чем там речь? О том, что корни нашего западного стремления отменить право и собственность — в раннехристианском монашестве.
Или, другой пример из этого ряда:«новая этика», в которую встроены, например, феминизм с его борьбой против сексуальной объективации женщин, — это очень старая этика, этика христианская. Призыв Христа не смотреть на женщину с вожделением (Мф. 5:28) — это призыв не объективировать и не сексуализировать женщину. В уже упомянутом «Пире десяти дев» и других трактатах о девстве обнаруживается дискурс, прямо противоположный дискурсу «традиционных ценностей»; в целом корни современных эмансипаторных практик и дискурсов уходят в наследие Отцов Церкви.
— Но ведь христианство предполагает какие-то представления об истине и грехе. Не несут ли эти представления некоторую репрессивность внешней нормы? Если этих регуляторов нет, жизнь как будто бы может стать свободнее, счастливее.
— Так и есть. Но сегодня мы наконец-то можем нормально говорить о том, чем было монашество и чем были и должны еще стать для нас духовные практики. Христиане не должны говорить: «страдай» или «постись», потому что так принято. Это бессмысленно. Идея практик себя, которая во многом восходит к уже упомянутому Фуко, предполагает, что человек — существо, способное само себя преобразовывать исходя из собственных отношений с истиной. Стремясь к выбранной истине, человек себя преобразует, то есть занимается аскезой, практиками достижения некоего «истинного» наслаждения..
Тот же Фуко, например, замечательно разъясняет христианскую добродетель послушания. Речь не о том, чтобы слушать каждого дурака-начальника. Речь о форме отношений с людьми, где Другой важнее, чем я. Практика послушания есть, таким образом, разрушение гордыни, понятой как логикавластных отношений. Конечно, это работает только в сообществе, где каждый практикует послушание, где каждый другой важнее каждого «я».
В общем, духовные практики — это способ производства опыта, альтернативного всему, что мы обычно переживаем. Из этого опыта мы можем доставать модели и установки, которые затем проецируются на социальные отношения. В этом и заключается политическое значение духовных практик.
Кстати, это еще одна причина, почему левые должны заново продумать свое отношение к христианству. Ведь главная проблема левых, которые с подозрением относятся к христианскому наследию и религиозной культуре, состоит в том, что у них нет ресурса или даже опыта для выстраивания нового общества. Атеистический социализм насквозь буржуазен, он не знает «иного». Откуда вы достанете новое общество и нового человека, если все, что вам известно — это жизнь в классовом обществе? У христианства этот ресурс — опыт нового человека и нового общества — есть.
— А есть ли внутри христианского (со)общества — такого, как вы описываете место инаковости? Может ли там находиться человек, который не принимает ценности этой общности? Не станут ли его клеймить?
— Мой основный тезис таков: все ответы уже есть в восточно-христианской культуре. Она произвела множество историй на эту тему. Скажем, у нас есть некое христианское общество в виде, например, монастыря или города, и там появляется человек, поведение которого вызывает коллективное презрение, перерастающее в насилие. Эта фабула есть, скажем, в «Житии Андрея Юродивого» или «Житии Алексия, человека Божия», в других многочисленных историях о юродивых и тайных святых. В чем смысл этих историй? В том, чтобы показать: вы думаете, что организовали себя как «христиане» — а вы ни черта не христиане. Потому что пришел человек, который ведет себя не так, как вам хочется, — вызывающе, радикально или просто как-то не по принятой норме — а вы над ним смеетесь, презираете, издеваетесь, отвергаете, применяет насилие.
В христианской культуре всегда была узнана, понята и решена эта проблема. Вы должны быть христианами не по имени, но по сути. Когда к вам приходит совершенно другой, который вызывает у вас даже отвращение, что вы должны сделать? Проявить добродетель «филоксении» (φιλοξενία), то есть буквально любви к чужаку, по церковнославянски — «страннолюбия». Мне очень нравится слово страннолюбие, потому что по в нем звучит не только любовь к странникам-чужакам, но и к странному вообще (freak, queer, weird). Страннолюбие — одна из кардинальных христианских добродетелей, которая активно культивировалась в древней церкви. Кто бы к тебе ни пришел и как бы он тебя ни раздражал, ни возмущал, ты должен проявить к нему действенную любовь. Под странными могут скрываться ангелы (Евр. 13:2). Под бездомными, заключенными, больными, нищими — Иисус Христос (Мф. 25:31-46). Таким образом христианская культура научала тому, что к каждому другому нужно относиться, строго говоря, как к Богу.
“Атеистический социализм насквозь буржуазен, он не знает «иного». Откуда вы достанете новое общество и нового человека, если все, что вам известно — это жизнь в классовом обществе?”