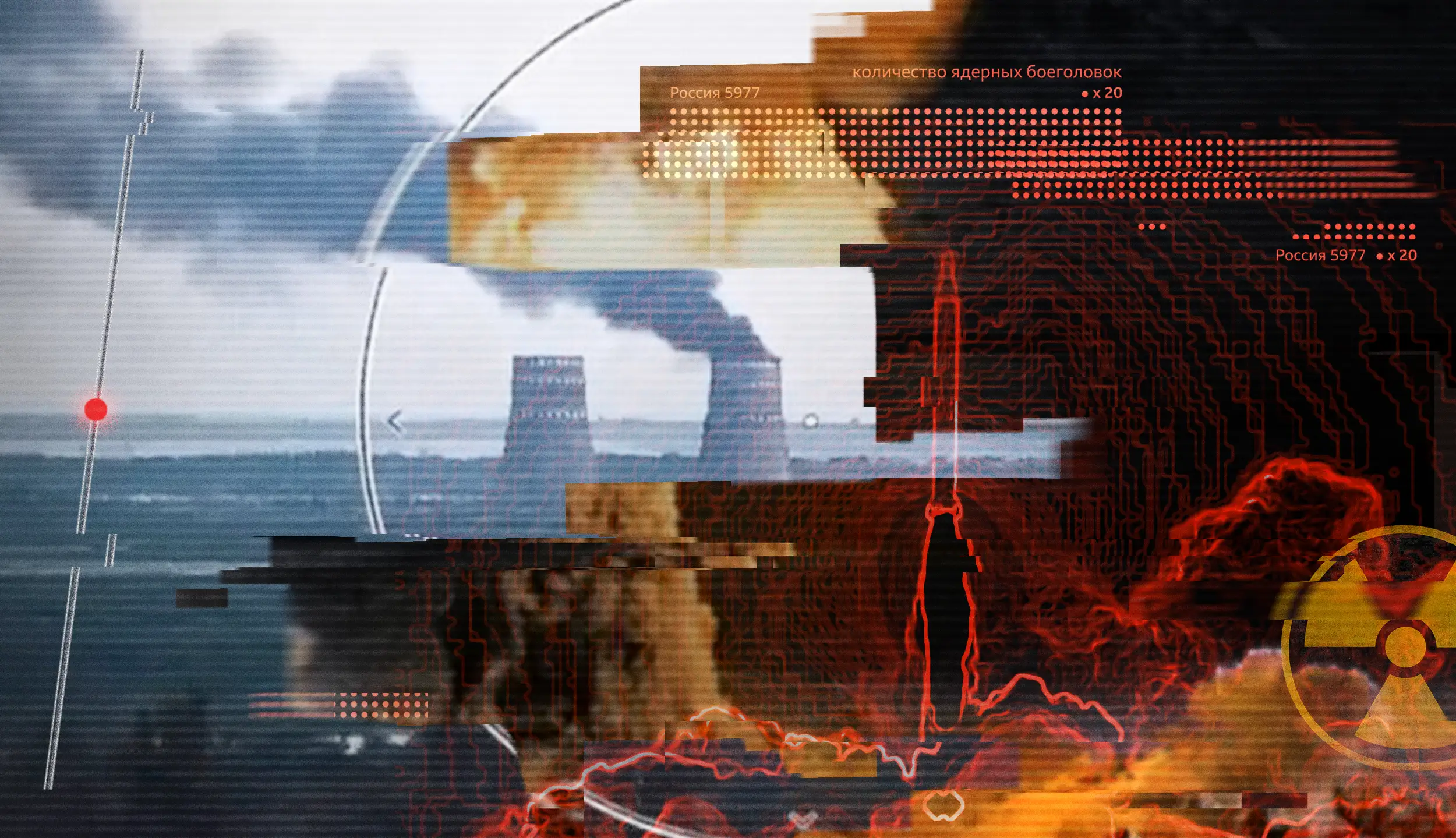Гендерная повестка, как и многие общественные явления в современном мире, движется по принципу «шаг вперед — два шага назад». В последние десятилетия феминистские требования звучат все громче, и бывают даже благосклонно встречены капиталом, осваивающим рынок женской эмансипации и репрезентации. Однако гендерное равноправие центра, достигнутое в том числе за счет движения капитала, экономически обеспечивается множеством периферийных зон, в которых проблема гендерного неравенства стоит особенно остро. Это можно наблюдать не только в странах Ближнего Востока, Пакистане и России, но и в многочисленных классовых, расовых и национальных гетто внутри относительно благополучных стран. На фоне войны в Украине очевидно, что бедное женское население обеих стран, ставшее жертвой военной агрессии, участвует в борьбе за новое гендерное будущее.
Всякая патриархальная система нуждается в гендерно окрашенных образах и смыслах: «базис» воспроизводства и физического насилия, которое висит над женщиной, как дамоклов меч, легитимирован сложной мифологической и психологической «надстройкой». Именно она призвана гарантировать на первый взгляд мирное сосуществование полов, причем не просто в одном обществе, но и под одной крышей. Поэтому о половых и гендерных отношениях сложено куда больше песен, чем, скажем, об отношениях рабочих и буржуа или колонизаторов и субалтернов. Начиная с эпохи Высокого Средневековья женщинам предлагается все больше культурных ролей, позволяющих придавать угрозам, связанным с репродуктивным бременем, общественную значимость. Такие культурные роли, или мифы, неизбежно возникают и при переводе личного в публичное.
В политической мифологии эксплуатируются образы жены, матери, сестры — причем это характерно как для революционных движений (Луиза Мишель писала в воспоминаниях о женщинах Парижской коммуны: «Казалось, в них пробуждалась сама Галлия»), так и для государственной пропаганды («Родина-мать зовет»). Эти мифы конструируются прямо сейчас, на фоне российской военной агрессии в Украине. Далее мы попробуем проследить логику этого конструирования, обратившись к истории возникновения некоторых хрестоматийных и чрезвычайно устойчивых женских политизированных амплуа. Можно предположить, что некоторые из них в том или ином виде вновь станут частью живой и актуальной популярной мифологии, получат неожиданный политический смысл и силу. Как ими политически распорядиться — будет зависеть в том числе от нас самих. В том числе речь идет об образах, репрезентирующих и означивающих отношения матери и сына — один из самых сильных и неоднозначных типов социальных отношений, эксплуатируемых во время войны.
В ситуации непрекращающихся военных действий гендерно окрашенные высказывания с регулярностью появляются в языке официальной власти. Здесь, например, показательны якобы случайно брошенные слова Владимира Путина от 7 февраля, адресованные Украине: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Эта оговорка позволяет вспомнить о том, что общественный договор мужчин, заключенный в эпоху раннего Нового времени, гарантировал мужчинам не только иллюзию безопасности, но и полную власть над женскими телами. Общественный договор мужчин — по аналогии с правом на завоевание женского тела — в дальнейшем позволит нововременным государствам установить колониальную власть, а капиталу — над природными ресурсами. Эту логику можно усмотреть и в процессе укрепления путинской «вертикали власти», которому сопутствовал резкий патриархальный поворот: отказ российских властей принимать закон о домашнем насилии был по сути сделкой с патриархально настроенным множеством мужчин.
Военные действия в Украине и частичная мобилизация населения поставили основания этой сделки под вопрос: безопасность больше ничем не обеспечена и никому не гарантирована, мужское население сведено к пушечному мясу. При этом общие биополитические требования государства в военное время распространятся и на женщин: рожать ли им, работать ли, подвергаться ли сексуальному и физическому насилию, и пр. Гендерная поляризация, прежде бывшая сносной, усиливается, порождая разнообразные, сопряженные с милитаризацией, риски. Перечислим некоторые из них, учитывая различные траектории развития политической ситуации.
Что бы ни происходило на фронте и в международных отношениях, общее усиление вмешательства государства в семейную и сексуальную жизнь граждан, принудительная отправка мужчин на войну, а женщин — в роддома в пределенный момент приведет к обострению гендерных различий. Здесь можно вспомнить первые десятилетия после Второй мировой войны: например, в Советском Союзе таковым был новый контракт «матери-героини», а в США — обособление дома как безопасного пространства, где за крепко закрытыми дверями мужчины канализировали свои травмы в домашнее насилие. Все это будет сопровождаться дополнительной нагрузкой и экономическим угнетением: разрушенная экономика будет требовать больше женской рабочей силы, оплачивая ее все скромнее и скромнее. В то же время государство может попытаться компенсировать демографический крах репрессивной биополитикой, принудительно возвращая женщин в семьи.
В случае, если после военного поражения России и возможного переворота будет установлен режим, так или иначе ориентированный на США и Европу с ценностями «либеральной демократии», волна женских требований может быть перехвачена на уровне идеологической борьбы. Для политической культуры, сложившейся в обществах развитого капитализма, довольно характерна постоянная подмена ответа на политические требования красивой репрезентацией, мелкие уступки на уровне представительной демократии и официальных дискурсов. Либеральное крыло российской оппозиции нередко избегало прямой артикуляции феминистской повестки, а то и относилось к ней с открытым пренебрежением. Поэтому либеральная версия «прекрасной России будущего» может ограничиться лишь косметическими мерами, сместив акценты с требований гендерного равенства на «общедемократические» ценности. Российская женщина будет вестернизирована сверху и извне, как это происходило с женщинами Югославии и Афганистана, и мы столкнемся с уже привычным противоречием между социальным прогрессом и методами его реализации.
Чрезвычайно показательно, что за объявлением открытой мобилизации сразу же последовала волна женских протестов. Женщины вышли на улицы в Чечне, Бурятии, Якутии, Туве, больше всего — в Дагестане. Кроме того, женщины внутри и вне России принялись помогать мужчинам, не желающим участвовать в войне, выехать из страны или избежать призыва. Женский «сострадательный» протест представляется альтернативой миру патриархального насилия, вопрос лишь в том, станет ли он в определенный момент мостиком к альтернативному политическому проекту. В символической структуре в том числе этого протеста присутствуют гендерные мифы, тесно связанные с обретением женщинами места в политическом мире. Разделение между «личным» и «политическим» сохраняется, но чрезвычайное положение, ломающее политическую нормальность, приходит в дом к каждому, и тогда гендерно окрашенный, семейный язык выплескивается наружу: граждане называют друг друга «отцами», «сыновьями», «матерями» и «женами» со всеми сопутствующими коннотациями. «Мать» и «жена» теперь фигурируют в качестве политических идентичностей, которые встраиваются в существующие провластные или протестные дискурсы. Однако «женщина-мать» и «женщина-героиня» —– культурные роли, которые могут иметь как субъективное измерение, так и измерение чуждое, навязываемое извне. Так ассоциируясь с ними, российские женщины могут по-браконьерски вырвать свое право быть активными участницами политики и протестов, а могут принять законы внешней репрезентации и сыграть в очередном гендерном спектакле.
Исторически эмансипация женщин разворачивалась в двух направлениях. С одной стороны, женщины милитантно захватывали «мужские» позиции и практики, с другой — переприсваивали традиционные, связанные с патриархальным порядком роли, в том числе тогда, когда патриархат мутировал, подчиняясь требованиям гуманизма, либерализма, экономической или политической конъюнктуры и пр. Однако за каждой политической «вылазкой» феминистского движения следовала не только реакция, но и перераспределение символических ролей. В частности, в контексте войны за независимость США и особенно в ходе Великой французской революции женщины заявили о себе и своем праве на политическую субъектность. Знаменитый поход женщин на Версаль, как и хлебные бунты 1917 года, был в том числе ответом на разорение казны, истощенной участием в войне (косвенным в случае Франции). Женщины стали опасной силой, требования прав и освобождения от домашнего рабства следовали одно за другим. В 1791 году французские женщины получили право на наследство и собственность. Однако их участие в политике было слишком настойчивым (включая Шарлотту Корде, известную прежде всего убийством Марата и за это убийство казненную), и в 1793 году якобинское правительство запретило все женские клубы и общества. Олимпия де Гуж, в 91-м написавшая текст «Декларации прав женщины и гражданки», также была обезглавлена.
Всплеск женской политической сознательности необходимо было направить в более безопасное русло. Так Луи-Мари Прюдом, редактор газеты «Парижские революции», заключал, что отец семейства призван обеспечивать мир и покой в гражданском мире, в то время как мать должна поддерживать мирное правление в доме. Приблизительно тогда же в Америке сформировался соответствующий образ «республиканской матери», подготовленный еще эпохой Просвещения. Увлечение древней Спартой в противовес изнеженным Афинам, возникшее под влиянием Руссо, гальванизировало представление о спартанской матери, в строгости готовящей совсем маленьких мальчиков к будущим жертвам на благо полиса.
В России конца XVIII–начала XIX века видение женщины, а точнее миф о женщине-матери, сложился под влиянием двух заметных факторов. Во-первых, почитания Богородицы как заступницы людей перед Господом, а во-вторых, в силу того, что в эпоху Просвещения империей правили женщины: именно придворные стихотворцы елизаветинской поры вводили описания «родины» в женском облике в противовес «отечеству». Особенно ярко образ материнской власти был выражен в екатерининскую эпоху. Любопытно, что запрет Екатерины II на издание «Эмиля» Руссо был вызван тем, что автор отрицал матрилинейную власть в том числе в семье, предлагая мужчинам заниматься воспитанием своих жен и детей, а матерям посвятить себя бытовой заботе — это явно противоречило российскому культу «матушки-государыни». После 1812 года, когда подъем патриотизма и гражданских чувств охватил не только придворные круги, родина получила свой инвариант республиканской матери. Классический пример — медаль Федора Толстого «Народное ополчение» 1814 года, изображающая, как Россия в костюме римлянки вручает мечи своим сынам (композиция повторяет «Клятву Горациев» Жака Луи Давида, но вместо отца — мать).
Позднее гражданская лирика Николая Некрасова закрепляет образ «Родины-матери» в революционно-демократическом контексте. Гендерный вопрос понемногу входит в обязательный набор республиканских ценностей российского гражданина. Примечательно, что в конце одной из самых известных его поэм «Кому на Руси жить хорошо» освобождение женщины происходит через освобождение сыновей: «Еще ты в семействе — раба, // Но мать уже вольного сына!».
Роман Максима Горького «Мать», признанный впоследствии эталоном соцреалистической литературы, представляет собой историю о том, как материнское чувство к сыну превращается в сочувствие ко всем «голодным и рабам». Развивая интуиции христианского социализма, Горький дополняет культ Богородицы идеей «материнского» суверенитета, и горьковская мать, «воспитанная» своим сыном, вручает людям прокламации вместо мечей. В дальнейшем женщина-мать, воплотившись в образе советской Родины-матери, и вовсе ознаменует собой возвращение к романтической эстетике, сменив «женщину-пролетарку», образ которой был растиражирован сразу после Революции. Именно романтический образ матери предъявляет себя на послевоенной картине Сергея Герасимова «Мать партизана» или в скульптурах работы Евгения Вучетича, создавшего один из самых грозных и устрашающих памятников, «Родину-мать» — одну в Волгограде, а другую в Киеве. Ее фигура как бы зависает в пространстве между публичным (классовым, экономическим, политическим) и частным (эмоциональным, семейным, архаичным).
Фигура матери, таким образом, политически амбивалентна. С одной стороны, она выполняет функцию кормилицы, чья «пустота» должна быть заполнена властью. Здесь можно даже провести аналогию между культурно закрепленной женской пассивностью и пассивностью безмолвствующего народа в символических структурах гендерной политики: именно в эту «кондовую» и «избяную» Русь прицеливались революционные солдаты из поэмы Александра Блока «12». С другой стороны, фигура матери оказывается в поле публичного и гражданского материнства (обязанности, долга, гендерно окрашенной судьбы).
Существует множество версий подобного рода патриотического материнства, но фигура матери всегда имеет власть над сыном: может отправлять его на войну, проклинать за трусость, поощрять его доблесть. Как сказал Фридрих Дюрренматт в пьесе «Ромул Великий» (1948), «когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной». Так за действиями материнской фигуры (поощряет, проклинает и пр.) оказывается государство, которое определяют воспитательную политику. Однако разделенность частного и публичного, «кухни» и «площади» приводит к тому, что кухня может в определенный момент стать местом, куда сын, в том числе по воле матери, может ускользнуть от государства. Патриархальная культура презирает тех, кто приколот к материнской юбке, но велит слушаться маму, и это противоречие оставляет простор для интерпретаций. С одной стороны, патриотические СМИ тиражируют восторженную речь матери погибшего в Украине десантника, с другой, антивоенные медиа и активисты обращаются к Комитету солдатских матерей, их опыту организационной и правозащитной работы.
Почему именно матери совершеннолетних сыновей, т.е. самостоятельных и дееспособных граждан, защищают их гражданские права? Один из ответов был почти 20 лет назад предложен Еленой Здравомысловой в статье «Солдатские матери»: мобилизация традиционной женственности»: таково «подыгрывание» традиционным гендерным мифам, которое тем не менее может ввести в ступор суверена с его биополитическим требованием плодиться/умирать. За счет чего подыгрывание традиционном порядку может обыграть охранителей этого порядка, ввести их в заблуждение и обрести политическую силу? Во-первых, социально одобряемая гендерная роль приписывает женщине особый («женский») взгляд на мир, которому соответствует непреодолимое желание бороться за детей. Во-вторых, политические акции могут быть похожими на традиционные женские практики заботы и религиозные ритуалы, а иной раз и сливаются с ними по сути (недавно это можно было наблюдать в Якутске, где женщины танцевали народный танец осуохай «на возвращение живыми мужей и сыновей»). В-третьих, яркий образ матери и определенный способ его эксплуатации способен вызвать эмоциональный отклик, привлечь, «мобилизовать» людей. Так проявляет себя разрыв между областью права и неформализованными (неформальными) «правами» матерей вести себя тем или иным образом. В силу этого разрыва перед гендерным натиском женщин отступает даже военное законодательство, потому что государство ставит перед собой две противоречивые задачи: обеспечить воспроизводство рабочей силы (то, что лежит на плечах и телах женщин), и поддерживать работу военной машины, которая эту рабочую силу уничтожает.
Гендерная поляризация также приводит и к фетишизации женщины как выразительницы особого вида жертвенного героизма. Такова роль «женщины-боевого товарища», о которой вспоминают во время исторических испытаний. Полуобнаженная Марианна с картины Эжена Делакруа («Свобода, ведущая народ») — аллегория свободы. Однако эту свободу женщина олицетворяет собой в качестве идеального зеркала мужского Эго: своим подвигом она легитимирует того, ради кого на эти жертвы идет. Если за нас сражаются такие (славные, прекрасные и пр. оценочные эпитеты) женщины, то значит, мы славные мужчины. Радикальная феминистская критика всегда выступала против использования женщины как инструмента признания мужчин и их деятельности. И все же инструмент, на работу которого возлагают слишком много надежд, имеет свойство отбиваться от рук и диктовать свои условия.
Светлана Алексиевич приводит воспоминания участниц Великой Отечественной войны, в которых часто фигурирует женщина в романтизированном образе сестры милосердия, которая помимо прочего занимается эмоциональным обслуживанием солдата: «Я всю войну улыбалась, я считала, что должна улыбаться как можно чаще, что женщина должна светить. Перед отправкой на фронт старый профессор нам так говорил: „Вы должны каждому раненому говорить, что вы его любите. Самое сильное ваше лекарство — это любовь. Любовь сохраняет, дает силы выжить». Интересно, что первые достижения в женском образовании в Российской Империи совпали с Крымской войной, а первые курсы по подготовки медсестер были организованы Николаем Пироговым — основоположником военно-полевой хирургии. Так Пирогов, выступая за эмансипацию женщин, призывал их к свершению «величественного подвига самопожертвования», связывая вместе войну и сестринскую нежность.
Идея о том, что воюющая женщина должна вдохновлять солдат, в России была впервые опробована в Первую мировую, когда Временное правительство использовали женские батальоны в целях патриотической пропаганды. Проукраинские медиа со схожими целями распространяют феминизированные образы сражающихся городов — гендерная мифология используется по обе стороны фронта. Во время войны женщине дозволено войти в политический мир на основании чрезвычайного положения, но когда оно закончится, надобность в женской милитантности и силе может отпасть.
Российское женское движение конца XIX и начала ХХ века также героизировало женщин, и куда в большей степени, чем мужчин. Вера Засулич, Вера Фигнер и другие революционерки сознательно приносили жертвовали собой ради движения, воспроизводя в политике материнское самопожертвование, которое наблюдали в семье. Можно увидеть в таком поведении библейские мотивы (Иисус был не только революционером, но и женщиной, т.е. выбрал терновый венец ради ближнего своего), можно — производную патриархального порядка, в котором жизнь девочки ей не принадлежит. Жертвенная героика и сегодня обладает исключительной силой, задавая женскому протесту моральное измерение, эксплуатируемое в современных медиа. Тем не менее революционный протест Засулич и ей подобных был одновременно и материнским (жертвенным), и антиматеринским (насильственным), так как переопределял границы семьи как конструкции и политизировал ее: главным детищем революционерок становился народ или будущая революция.
Апелляция к морали — неотъемлемая часть политической практики, как бы мы ни относились к подмене политики морализацией. Мораль в общественно-политическом смысле предполагает не только постановку вопроса о справедливости общественных отношений и политического порядка, но и вопрос об ответственности. Женщинам традиционно приписываются определенные зоны и тип ответственности (оберегание семьи, уход за домом, забота о детях и пр.), при этом такая ответственность может в том числе распространяться на город, страну и даже планету. Неудивительно, что в политике появляются такие фигуры как Светлана Тихановская, претендовавшая (и претендующая) на пост президентки Беларуси, апеллируя к «семейным» ценностям доверия и справедливости: ее признание было основано на моральной конвенции, а не силе.
Возможно, государство обладает монополией на насилие, но не обладает монополией на власть. Как говорилось выше, государственный суверенитет основан на «договоре мужчин», в котором аффекты вытеснены в «нижний мир» женской половины дома. Когда в патриархальной системе женщины вынужденно взвалили на себя эмоциональную работу, то в придачу они получили и власть эмоционального характера, т.е. легитимную способность эти эмоции проявлять. Именно поэтому бюрократия так опасается «женских истерик», а мальчики — женских насмешек. В этом смысле «истеричка» и «скандалистка» — это не только слова, которые патриархальный мир окрасил негативными коннотациями, но и фигуры неподчинения и несогласия, а сплетни в очередях — форма политической дискуссии, не принятой в приличном (мужском) обществе: эмоции не всегда удается сдержать авторитетными дискурсивными практиками.
В этом смысле стоит еще раз подчеркнуть, что «фигура матери» — при всех своих консервативных и традиционалистских ассоциациях — в конкретных обстоятельствах может принимать разный политический смысл. Для путинской власти — это «мать-чиновница», которая обещает, что ее сыновья «выполнят задачи, поставленные командованием». Освободительная традиция, несмотря на попытки «расколдовывания» мира, заколдовывает женскую агентность в древние гендерные мифы, восходящие к христианской традиции или нарциссическим неврозам современного мужчины, которому даже в борьбе необходимо смотреться в «зеркало». Неслучайно Вирджиния Вулф писала, что «женщина веками играла роль зеркала, наделенного волшебным и обманчивым свойством: отраженная в нем фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины».
Левый феминизм видит в половых и гендерных структурах механизмы, с помощью которых рынок и государство с его аппаратами преобразуют биологическое воспроизводство (а также практики заботы) в прибавочный продукт и систему подчинения соответственно. Удар в гендерный «базис» мог бы быть чрезвычайно болезненным. Так, например, «женскую власть» могла бы использовать так называемая сексуальная и эмоциональная забастовка — полный отказ от эмоционального и сексуального обслуживания любых пособников милитаризации (вплоть до разводов и сепарации), коль скоро невозможна институциональная политизация. Это звучит контринтуитивно в и без того деполитизированном и атомизированном обществе, но ведь бойкот для одних — основание для консолидации и солидаризации для других, поэтому параллельно с сепарацией могут создаваться новые союзы — теснее брачных и семейных, которые зачастую мотивированы необходимостью выживания. В этом смысле и захват морального авторитета может иметь милитантный характер, ведь в истории женской эмансипации были эпизоды, когда гендерный вопрос был увязан с вопросом об источнике и природе власти, которая начинается в семье. Расползание всех договоров, некогда заключенных в ходе становления современной российской государственности, будет означать и кризис гендерной системы, однако его исход пока не определен.
Женская слабость и женская сила могут поменяться местами. Когда речь заходит не о частных эдипальных фантазиях, а о политической власти, роль, приписываемая женщине в символических структурах общества (в т.ч. общества довольно патриархального), может приобретать новое измерение. Государственная пропаганда настаивает на том, что в России традиционная женская роль — быть матерью, и эта же роль проблематизировалась в демократических и освободительных проектах. Так желание матери спасти сына должно сопровождаться желанием сына освободить мать — как мыслили это Некрасов и Горький. Эмоциональная и моральная власть, на которую сегодня может «традиционно» притязать мать в российской семье, может стать мощным орудием ненасильственного протеста. Кто знает, возможно, низовая политизация этой роли и этой власти позволит изменить порядок вещей — заключить новый «общественный договор», включающий мужчин и женщин на равных условиях.