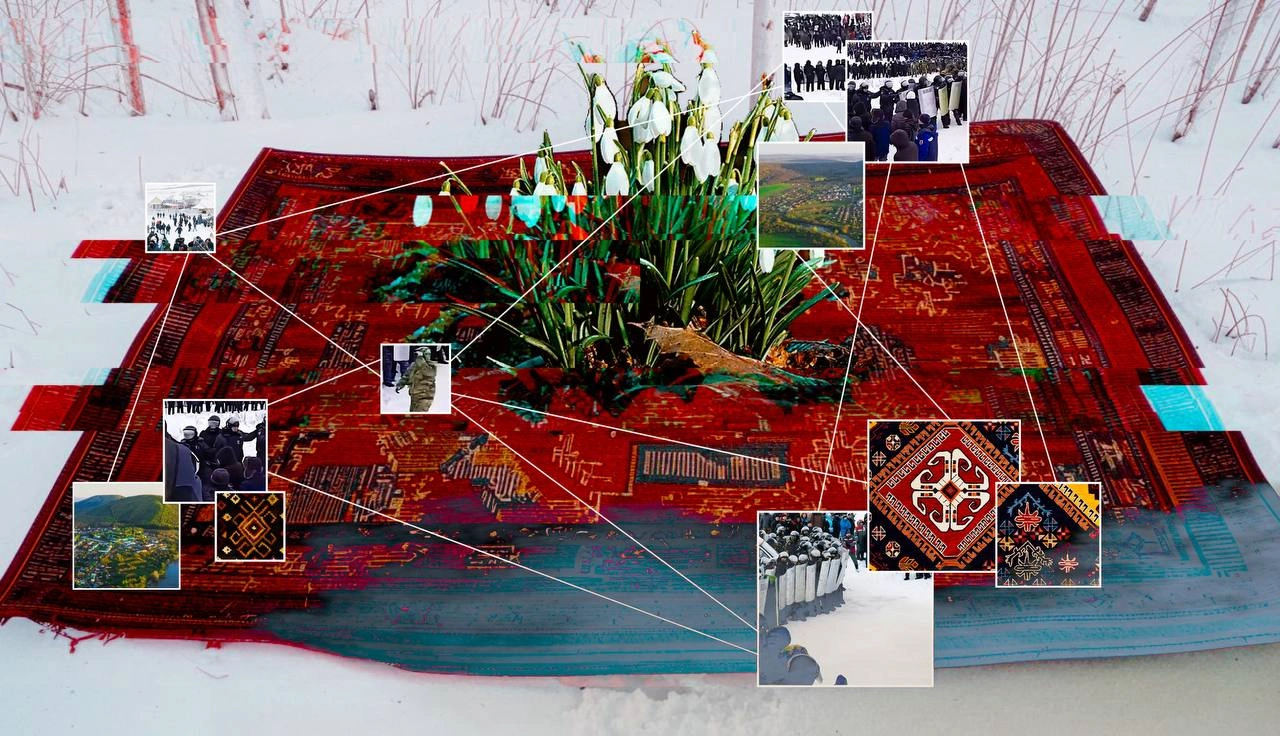Очевидно, что сравнения нынешней войны в Украине с вводом советских войск сорок лет назад продолжают пользоваться широкой популярностью. И если украинские политики предрекают российской армии повторение позорного поражения, то секретарь Совбеза РФ Патрушев, напротив, утверждает, что Америке не удастся превратить “Украину в европейский Афганистан”. Конечно, исторические аналогии не имеют прогностической силы, но иногда они помогают расширить наше понимание текущего момента. У решений, которые приняло Политбюро в декабре 1979-го и российский президент в феврале 2022-го, огромное количество отличий: вводу войск в Афганистан, несмотря на его слабую подготовку, предшествовало коллективное обсуждение в узком кругу партийного руководства (в ходе которого звучали и отдельные голоса против — например, от Алексея Косыгина), а сам ввод происходил, по крайней мере формально, по просьбе легитимного правительства Афганистана, которое пользовалось поддержкой части населения. Наконец, сами масштабы военного присутствия СССР в Афганистане были значительно меньше сегодняшнего вторжения в Украину. Тем не менее, афганская война также привела к огромным потерям, ее реальный ход также скрывался официальной пропагандой, и она также сопровождалась ростом вероятности глобального военного конфликта. И также, как и нынешняя война, ввод войск в Афганистан привел к резкому “закручиванию гаек” внутри страны. Известный правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин был арестован в феврале 1980 года, через два месяца после начала афганской войны. Тогда Бахмина обвиняли в “распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй”, и следующие четыре года он провел в лагере. Сегодня Вячеслав Иванович рассказал “После” о своем восприятии войны в Афганистане и справедливости исторических параллелей с войной нынешней.
— Как в вашем окружении и вы лично восприняли тогда, в 1979-м, новость о вводе войск в Афганистан? Как повлияла война на повседневную жизнь большинства?
— Это был хотя и ограниченный контингент, но все-таки ввод войск в другую страну. И мы, конечно, понимали, что будут жертвы, что это серьезное нарушение международного права, хотя войска и вводились по просьбе руководства Афганистана. Тем не менее мы боялись серьезных последствий как для страны, так и для прав человека в стране, поэтому все мои коллеги выступали против ввода войск. Но все-таки эмоционально мы не были против этой войны так, как, например, против ввода войск в Чехословакию. Ведь там было наступление на то, что нам было очень дорого и то, что мы рассматривали как последний шанс или небольшой шанс изменить ситуацию в своей собственной стране.
— Отличие ввода войск в Афганистан от Чехословакии состояло, как мы знаем сегодня, в том, что переросло в полномасштабную войну с большими потерями, в том числе и советских войск. Было ли у вас или у ваших друзей ощущение в тот момент, что это может перерасти в долгую и кровавую войну?
— Я думаю, что у большинства не было вначале такого ощущения, что это может быть надолго. На это влияли сами формулировки: «ограниченный контингент», «ввод по просьбе власти». Я понимал, что, скорее всего, это происходит для того, чтобы свергнуть Хафизулла Амина и поставить своих людей, чтобы постепенно передать им в руки борьбу за демократию. Но потом это превратилось в совершенно другое — в площадку борьбы между США и Советским Союзом с помощью моджахедов, которых снабжали оружием из США и других стран. Ввод войск стал масштабной войной, в которой было потеряно больше 14 тысяч советских военнослужащих и порядка миллиона, насколько я понимаю, афганцев. Это были огромные потери, но большинство из нас этого не ощущало. Возможно, были специалисты, которые могли это спрогнозировать, понимая, что вообще любая война в Афганистане обречена на провал, если исходить из знания истории. Но большинство не считало, что это тот самый капкан, который может в итоге повлиять на разрушение Советского Союза и на перемены в нем. И в какой-то степени он повлиял.
“Происходящее подавалось в новостях таким образом, что это такая временная легкая прогулка”
— Как мы знаем, Афганская война произвела такой огромный эффект, так как затронула огромное количество обычных семей, в которых были погибшие или воюющие сыновья. Было ли советское общество чувствительно к этому вопросу на момент начала войны или для людей все это оставалось больше новостным фоном, который, как тогда казалось, лично никого не касается?
— Скорее второе. Ведь в первые месяцы войны это никого не касалось, кроме, наверное, тех семей, у кого дети оказались в Афганистане. Происходящее подавалось в новостях таким образом, что это такая временная легкая прогулка. Ни о каких серьезных потерях или о каких-то проблемах в новостях не могло быть и речи — была жесткая цензура. Мне кажется, что ситуация была сходна с тем, что в наше время происходило с вводом российских войск в Сирию. Пока не стали поступать гробы, «груз 200», пока не стали возвращаться с войны афганцы и приносить военное мышление на территорию страны, до тех пор казалось, что ничего серьезного не происходит. Поскольку меня не было в это время в Москве и я не был на свободе, то многого не видел, во всяком случае, первые четыре года. Мне казалось, что население страны относилось к этому достаточно спокойно, поскольку оно потребляло то, что давали основные официальные каналы телевидения и радио, где все рассматривалось как интернациональная помощь Советского Союза нашим братьям в Афганистане. С такой интернациональной помощью страна сталкивалась довольно часто — Куба, страны Африки. Мы всегда были готовы прийти на помощь молодым коммунистическим режимам, которые мы частично сами и создавали. Поэтому была обычная ситуация. Я думаю, что серьезно рассматривать это как трагедию для страны стали уже только во времена гласности.
— Начало войны в Афганистане стало моментом окончания политики разрядки, резкого ухудшения отношений с Западом и введением (несравнимых, конечно, с нынешним масштабом, но тем не менее чувствительных) международных санкций против Советского Союза. Как это повлияло на изменение внутриполитической атмосферы в стране?
— Опять же, мне сложно говорить, поскольку внутриполитическую атмосферу нужно было наблюдать в динамике на протяжении определенного времени. Насколько я знаю, если даже экономические санкции были, то едва ли их кто-то почувствовал, поскольку Советский Союз был достаточно мощной экономической державой, в которой по-своему были построены все нерыночные экономические процессы. Но что касается других санкций (например, бойкота Олимпиады в 1980 году), то это невозможно было замолчать, об этом говорили как о совершенно недопустимом втягивании спорта в политику, как всегда об этом говорят. И это сыграло свою роль. Тот праздник, к которому готовилась Москва и страна в 1980 году, и первая в нашей стране Олимпиада прошли не в той атмосфере, которая планировалась заранее. Что касается остальных санкций, мне сложно судить, но думаю, что они вряд ли серьезно повлияли.
— Ввод войск в Афганистан достаточно быстро повлек за собой мощную кампанию репрессий против инакомыслящих и правозащитного движения. В январе 1980 года Андрей Сахаров был выслан из Москвы, а в феврале произошел ваш арест. Было ли это для вас это неожиданным и насколько очевидна была взаимосвязь между действиями советской армии в Афганистане и КГБ против инакомыслящих внутри страны?
— Неожиданным это, конечно, не было. Волна репрессий наступила еще до официального ввода войск 25 декабря. На самом деле, решение было принято до этого, а обсуждение самих мер происходило еще раньше. И на этом фоне начался рост репрессий. Сначала были массовые предупреждения о недопустимости противоправных действий, которые касались большого количества видных диссидентов того времени, а после предупреждений пошли аресты. Сами аресты начались до ввода войск в Афганистан. Это значит, что наверху уже было принято окончательное решение покончить с правозащитным движением, которое было раздражающим фактором для власти, поскольку оно было не таким мощным, но организованным и видимым в мире, в том числе Московская Хельсинкская группа, которая регулярно давала информацию о ситуации в стране. И, конечно, ввод войск в Афганистан был хорошим поводом, чтобы покончить с правозащитным движением, так как уже не было речи о разрядке и репутации страны в мире, все были заняты проблемами войны в Афганистане. На этом фоне закрыть часть людей и выслать остальных было достаточно легко. Конечно, реакция на высылку Сахарова была достаточно серьезной в мире и в стране, но людей его калибра было не так много (вернее, таких не было вообще), и поэтому со всеми остальными можно было расправиться довольно безболезненно. Что и произошло в ближайшее время.
— Высылка Сахарова была напрямую связана с его антивоенными заявлениями?
— Я думаю, что это послужило поводом, но не было главной причиной. С Сахаровым нужно было что-то делать, как в свое время с Солженицыным. Вопрос этот обсуждался, поскольку Сахарова нельзя было выслать за границу как носителя серьезных секретов. Идея выслать его в какой-то закрытый город также обсуждалась раньше, но только на фоне Афганской войны было принято такое решение — чтобы изолировать самого Сахарова от информации, а других — от сахаровских выступлений. Это решение было самым серьезным из всех, поскольку его последствия были более серьезными, чем при аресте какого-либо другого диссидента. Поэтому они пошли на это, а мы понимали и были готовы. Люди первого эшелона — те, которые активно занимались сбором информации, взаимодействием с Западом, западными журналистами и дипломатами — были на грани посадки одним фактом своей деятельности, и все были готовы к аресту. Стоял только вопрос — когда? А когда начался ввод войск и пошла волна предупреждений, то все поняли, что звоночек прозвенел, в любой день могли арестовать. Так что готовность была.
— Мы знаем, что Юрий Андропов, на тот момент председатель КГБ, был одним из главных лоббистов решения о вводе советских войск в Афганистан. Как вы думаете, было ли это решение для спецслужб триггером репрессивного наступления внутри страны? Насколько им нужна была война для решения каких-то внутриполитических проблем?
— Сложно сказать, но логика здесь прослеживается: на фоне войны у спецслужб становятся развязаны руки. Это то, чего они всегда добивались и чего они хотели. Им надоедает играть в игры, заданные ограничениями со стороны Политбюро, закона и суда, поскольку [это] не дает эффективно использовать репрессивный аппарат, а на фоне войны многое становится позволено. Поэтому такая гипотеза выглядит вполне логично, хотя я не могу сказать точно, поскольку я не знаю, какие были мотивы у председателя КГБ относительно поддержки ввода войск. Возможно, что он искренне считал, что с этим можно справиться достаточно быстро.
— Расскажите об обстоятельствах вашего ареста. Когда он произошел и с чем был связан?
— С 1977 года я был одним из учредителей Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Мы собирали информацию о людях, которых помещали в психиатрические больницы по суду или по каким-либо административным причинам. И часто это происходило в связи с их поведением, а не по их болезни. Мы никогда не утверждали, что человек не болен, но мы всегда подозревали, что меры, принятые к этому человеку, диктуются не столько его состоянием, сколько его деятельностью, которую власти считали вредной. Таких случаев было много. Мы вели картотеку, у нас был свой психиатр, который делал независимую экспертизу. Ему потом пришлось эмигрировать, когда стало известно его имя (мы его имени не раскрывали). В нашей комиссии было не очень много людей, но мы выпускали ежемесячный информационный бюллетень о том, что мы делаем, на его обложке мы публиковали наши адреса и телефоны. Эти бюллетени зачитывались по «голосам», поэтому к нам обращались люди, которые сталкивались с такими психиатрическими репрессиями. Мы действовали довольно открыто. За три года с 1977 по 1980 гг. за деятельность рабочей комиссии никого не арестовали, что было, конечно, удивительно. Они никогда не делали таких пауз. Например, у Хельсинкской группы за год арестовали ключевых представителей. После разговора с Ф.Д. Бобковым, который состоялся в октябре 1979 года, в котором он меня предупредил, что они этого терпеть не будут, начались наши аресты именно за работу в комиссии. К 1981 году никого не осталось, все были арестованы. Их либо посадили, либо отправили в ссылку. На этом организация прекратила свое существование.
“На фоне войны у спецслужб становятся развязаны руки. Это то, что они всегда добивались и чего они хотели”
Я был арестован в феврале. Получил сначала три года по 190 статье [Статья 190.1 УК РСФСР. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй], т.е. максимальный срок. В суде кричали, что этого срока мало за то, что я сделал. Потом, когда в суде зачитывали обвинение, оказалось, что оно точно тянуло на 70 статью [Статья 70 УК РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда], но они решили дать не 70 статью, а 190. Тем не менее, я содержался все время в Лефортово, а это показывало, что к делу причастно КГБ, а не прокуратура. Тогда дали мне три года, и я их отсидел в Томской области, в Асино. В конце срока возбудили еще одно дело. Тогда это было модно, потому что по 190 статье не давали больше трех лет, а по 70 статье давали до семи лет. Но 70 статья означала то, что вы сидите в спецлагере для политических заключенных, где полно своих, а 190 статья — вы сидите в уголовном лагере, где своих нет. Конечно, предпочтительнее был второй вариант, но там маленький срок, поэтому и появилась такая практика давать второй строк. Тем, кто вел себя неадекватно в зоне, давали второй срок. До меня такой второй срок получил Валерий Абрамкин, после трёшки он получил вторую трёшку. Хотя и мне грозила трёшка, но почему-то дали год, что оказалось для меня сюрпризом. Этот год не смогла даже изменить апелляция в Верховный суд со стороны прокуратуры, которая возмутилась тем, что суд не дал мне три года. Таким образом, оставили год и в 1984 году я уже вышел на свободу. Когда началась перестройка, я получил письмо от судьи с извинениями, что он не мог ничего сделать и не мог меня освободить, поэтому дал год. В это письмо была вложена справка о реабилитации по всему делу. Это уникальный случай, я таких больше не знаю.
В 1984 году я освободился и поехал в Тверь (тогда Калинин), поскольку я не мог жить в Москве, пока у меня была судимость. Там я был под надзором в течение года, который мне продлили после провокации и обвинения в хулиганстве. Это была отдельная статья и меня чуть не посадили еще на трёшку. Но потом началась перестройка и мне поменяли статью, и я отделался легким испугом. В 1989 году я вернулся в Москву, когда в разгаре была перестройка. Тогда кончилась моя судимость и я уже мог жить формально в Москве. С тех пор я живу в Москве. Все произошедшее довольно серьезно повлияло на мою жизнь.
— Как складывалась ваша жизнь в Твери сразу после освобождения?
— Мне повезло, что я устроился на работу программистом, то есть занялся тем, что я знал и умел. Меня сразу отправили в бюро по трудоустройству, поскольку в моей трудовой книжке не было записи об аресте и на четыре года там был пропуск. Меня освободили от прежней работы из-за невыхода на работу. И когда меня спросили в бюро по трудоустройству о том, где я был эти четыре года, то я сослался на семейные обстоятельства. В итоге они дали направление на работу программистом в фирму «Спецавтоматика», там меня с удовольствием взяли на работу. Но я им сказал, что я был судим, поскольку не хотел их подставлять. На что мне сказали, что если направили на работу, то значит, все хорошо. Там я работал до ареста по хулиганке в 1985 году. Это была провокация для того, чтобы продлить срок моего надзора, который максимально длился год. После продления надзора меня снова захотели посадить, и суд дал три года в колонии строго режима, но на кассации поменяли статью на 112 [Статья 112 УК РСФСР Умышленное легкое телесное повреждение или побои], и после трех недель в тюрьме я вышел на свободу. Так получилось, что на это время я взял отпуск на работе, три недели которого я провел в тверской тюрьме. После этого я продолжал работать. Правда, на работе попросили меня осудить и было проведено обсуждение моего неправильного поведения потому, что о моем случае передавали по «Голосу Америке» и «Радио Свобода». Но они не знали, как меня осудить. Так мне было сказано, что если что-то такое произойдет, не нужно обращаться сразу к каким-то «голосам». На что я им ответил, что я никуда не обращался, они и так все сами знали. Так что на работе остались хорошие отношения, и я работал до того момента, пока я не уехал из Твери. Более того, они меня рекомендовали в головную организацию НПО «Спецавтоматика» в Москве, где я работал до 1991 года. Потом я работал в Институте математики и в МИД, куда меня порекомендовал С.А. Ковалёв.
— Середина 1980-х годов — время, когда продолжается война в Афганистане. Диссидентское движение было разгромлено, в стране нарастал социальный кризис, который привел к Перестройке. Какое у вас было ощущение от общения с коллегами, людьми вокруг и от состояния общества в целом?
— Мы не общались особо об этих вещах, хотя, естественно, мы следили за тем, что происходит в стране. Я переписывался со своими коллегами в Москве, ко мне приезжали и т.д. Мы видели, как постепенно меняется ситуация, поскольку уже в 1985 году появились первые признаки оттепели, а через два года, когда освободили Сахарова, много чего стало можно. Я даже стал ездить нелегально в Москву. Хотя формально мне нельзя все еще было там жить, но приехать я мог. В Москве я участвовал в правозащитной конференции 1988 году. Мы собрались впервые на квартире, и в КГБ уже не знали, что делать в таком случае. С одной стороны, они должны были это сразу прихлопнуть, но, с другой стороны, было уже другое время. Поэтому ситуацию можно охарактеризовать как неопределенную. Хотя мы внимательно следили за тем, что происходит в стране, но новости о войне в Афганистане шли фоном и интересовали только часть людей, которые как-то к этому имели отношение.